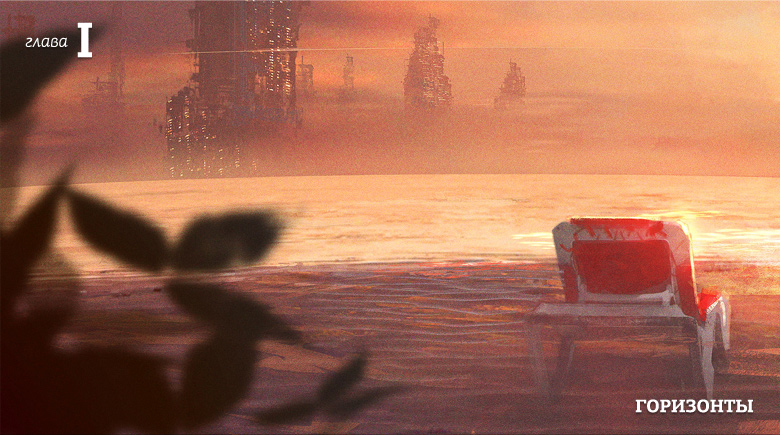
Лифт — отличная штука.
Есть масса поводов восхищаться лифтами.
Путешествуя по горизонтали, всегда знаешь, куда попадешь. Перемещаясь по вертикали, можешь оказаться где угодно. Направлений вроде всего два — вверх и вниз, но ты никогда не знаешь, что увидишь, когда створки лифта раскроются. Бескрайние офисные опенспейсы — зоопарк с клерками, идиллическая пастораль с беззаботными пастушками, саранчовые фермы, ангар с одиноким дряхлым Нотр-Дамом, смрадные трущобы, в которых на одного человека приходится сто квадратных сантиметров жилья, бассейн на берегу Средиземного моря, или просто сплетение тесных сервисных коридоров. Одни уровни доступны для всех, на других лифты не открывают своих дверей случайным пассажирам, а о третьих не знает никто, кроме тех, кто проектировал башни.
Башни достаточно высоки, чтобы проткнуть облака, а корни, которыми они уходят в землю, еще длиннее. Христиане убеждают, что в башне, которая построена на месте Ватикана, есть лифты, курсирующие в Преисподнюю и обратно, а есть такие, что возят праведников прямо в рай.
Я тут прижал одного проповедничка, спросил, зачем в такой безнадежной ситуации они продолжают оболванивать людей. Впаривать бессмертие души в нынешние времена — дело обреченное. Душой же давно никто не пользуется! Христианский рай, должно быть, такая же унылая дыра, как Собор Парижской Богоматери: народу никого, и повсюду слой пыли с палец толщиной.
Тот затрепыхался, запищал что-то про образы для масс-маркета — мол, надо говорить с паствой на ее языке. Надо было сломать этому трюкачу пальцы, чтобы ему креститься не так ловко было.
На двухкилометровую высоту скоростные лифты взлетают за минуту-другую. Для большинства этого времени как раз хватает, чтобы посмотреть рекламный ролик, поправить прическу или убедиться, что между зубов ничего не застряло. Большинство не обращает внимания ни на интерьер, ни на размер кабины. Большинство даже не отдает себе отчета в том, что лифт куда-то движется, хотя ускорение сдавливает и кишки, и извилины.
Согласно законам физики, оно должно было бы спрессовывать и время — хоть чуть-чуть. Но вместо этого каждый миг, который я провожу в кабине лифта, разбухает, распухает…
Я смотрю на часы в третий раз. Эта чертова минута никак не желает заканчиваться! Я ненавижу людей, которые восхищаются лифтами, и ненавижу людей, которые способны, как ни в чем ни бывало, разглядывать в кабинах свое отражение. Я ненавижу лифты и того, кто их изобрел. Что за дьявольская идея — подвесить над бездной тесный ящик, запихнуть туда живого человека и предоставить ящику решать, сколько держать человека взаперти и когда выпускать его на свободу?!
Двери все никак не откроются; хуже того, кабина даже не собирается замедляться. Так высоко я, пожалуй, еще не забирался ни в одной башне.
Но на высоту я плевать хотел, с высотой у меня нет никаких проблем. Я готов стоять на одной ноге на вершине Эвереста, только бы меня выпустили из этого проклятого гроба.
Не надо об этом думать, иначе воздух кончится! Как я опять соскользнул в эти клейкие мысли? Я ведь так славно размышлял о заброшенном Нотр-Даме, об изумрудных тосканских холмах ранним летом… Закрыть глаза, вообразить себя среди высокой травы… Я стою в ней по пояс… Все по книжным рекомендациям… Вдох… Выдох… Сейчас успокоюсь… Сейчас…
Да откуда мне знать, каково это — стоять по пояс в долбаной траве?! Я никогда не видел ее ближе, чем с десятка шагов, и войти в нее точно бы не получилось…
Зачем я согласился забраться так высоко? Зачем принял приглашение?
Да можно ли считать, что меня пригласили? Вот живешь ты тараканьей фронтовой жизнью: бегаешь по траншеям щелей в полах и стенах, любой шум относишь на свой счет и замираешь, готовый быть раздавленным. Но однажды выбираешься на свет и попадаешься, однако вместо того, чтобы хрустнуть и сгинуть, вдруг, крепко зажатый пальцами, взлетаешь куда-то вверх, где тебя собираются разглядывать; разве это приглашение?
Кабина все продолжает подниматься. Экран во всю стену показывает рекламу: размалеванная девка глотает таблетку счастья. Остальные стены — бежевые, мягкие, сделаны так, чтобы не нервировать пассажиров и чтобы не дать им расколотить себе башку в приступе паники; однозначно, восхищаться лифтами есть масса поводов!
Шипит вентиляция. Я чувствую, что взмок. На бежевый пружинящий пол падают капли. Горло не пропускает воздух, словно его сдавливает могучая механическая пятерня. Девка смотрит мне в глаза и улыбается. Остается тоненькое отверстие, через которое я еле втягиваю в себя достаточно кислорода, чтобы не потерять сознание. Бежевые стены медленно, почти незаметно сжимаются вокруг меня, норовя задавить.
Выпустите!
Ладонью я зажимаю девке ее улыбающийся красный рот. Ей, кажется, это даже нравится. Потом изображение пропадает и экран превращается в зеркало. Я гляжу на свое отражение. Улыбаюсь.
Разворачиваюсь, чтобы залепить кулаком по дверям.
И тут лифт останавливается.
Створки раздвигаются.
Стальные пальцы, пережавшие мне трахею, нехотя ослабляют хватку.
Я вываливаюсь из кабины в лобби. Пол выложен якобы камнем, стены отделаны якобы деревом. Освещение вечернее, за простой стойкой — загорелый благожелательный консьерж в свободной одежде. Никаких надписей, никакой охраны; те, кто имеет сюда доступ, знают, куда попали, и понимают, какую цену им придется заплатить за любой эксцесс.
Я собираюсь представиться, но консьерж дружелюбно отмахивается.
— Проходите-проходите! За моей стойкой — второй лифт.
— Еще один?!
— Он поднимет вас прямо на крышу, буквально пара секунд!
На крышу?
Никогда раньше не бывал на крышах. Жизнь проходит в боксах, как и должно. Иногда оказываешься снаружи — гонишься за кем-нибудь, случается всякое. Хорошего там мало, и делать там обычному человеку нечего. Но крыши — другое дело.
Я как попало нацепляю на свою потную физиономию учтивую улыбку и, собравшись, шагаю к потайному лифту.
Никаких экранов, никакого управления. Набираю воздуха, ныряю внутрь. Пол — паркет из русского дерева, раритет. Забыв на секунду о своем страхе, я приседаю и ощупываю его. Это не композит, точно… Солидно.
Именно таким идиотом на корточках — промежуточная стадия известного рисунка на тему превращения обезьяны в человека — меня и застает она, когда двери вдруг распахиваются. Будто и не удивлена тем, в какой позе я езжу на лифтах. Воспитание.
— Я…
— Я знаю, кто вы. Мой муж немного задерживается, попросил меня вас развлечь. Считайте меня его авангардом. Я — Эллен.
— Пользуясь случаем… — не поднимаясь с колен, я улыбаюсь и целую ее руку.
— Кажется, вам немного жарко, — она забирает у меня свои пальцы.
Ее голос прохладен и ровен, а глаза скрыты за огромными круглыми стеклами темных очков. Широкие поля элегантной шляпы — коричневые и бежевые полосы концентрически чередуются — опускают на лицо вуаль тени. Мне видны только губы — вишневая помада — и композитно-идеальные зубы, ровные и кокаиново-белые. Может быть, это обещание улыбки. А может, ей просто хочется одним полудвижением своих губ заставить мужчину строить щекочущие гипотезы. Просто так, для упражнения.
— Мне немного тесно, — признаюсь я.
— Так пойдемте, я покажу вам наш дом.
Я встаю и оказываюсь с ней одного роста, но мне кажется, что из-за своих стекол она продолжает смотреть на меня свысока. Она предлагает называть себя Эллен, но это все игры в демократию. Госпожа Шрейер, вот как мне следует к ней обращаться, учитывая, кто такой я и чьей супругой является она.
Понятия не имею, зачем я понадобился ее мужу, и уж совсем не могу представить себе, к чему ему впускать меня в свой дом. Я бы на его месте побрезговал.
Из светлой прихожей — створка лифтовой кабины притворяется обычной входной дверью — я попадаю в вереницу просторных комнат. Эллен идет чуть впереди, указывая дорогу, не оборачиваясь ко мне. И прекрасно — потому что я пялюсь по сторонам, как деревенщина. Я бываю во всяких домах — моя служба, как некогда служба старухи с косой, не позволяет делать различий между бедными и богатыми. Но таких интерьеров мне не доводилось видеть нигде.
На господина Шрейера и его супругу приходится больше жилой площади, чем на обитателей нескольких кварталов десятком-другим ярусов ниже.
И не надо ползать на коленях, чтобы убедиться: все в доме — натуральное. Конечно, неплотно пригнанные и вытертые мореные доски пола, ленивые латунные вентиляторы под потолком, азиатская темно-коричневая мебель и отполированные пальцами дверные ручки — все это стилизация. Начинка у дома — сверхсовременная, но скрыта она за самой настоящей латунью и самой настоящей древесиной. С моей точки зрения — непрактично и неоправданно дорого; композит стоит в десятки раз меньше, и он-то вечен.
Тенистые комнаты, через которые неспешно шагает их хозяйка, пусты. Прислуги нет; иной раз проявится из тени человеческий силуэт, но окажется скульптурой — то из покрытой белесым налетом патины зеленой бронзы, то из лакированного черного дерева. Доносится откуда-то тихая старинная музыка, и на ее волнах госпожа Шрейер гипнотизирующе покачивается, проплывая через свои бескрайние владения.
Платье на ней — простой прямоугольник из ткани кофейного цвета. Его плечи нарочито велики, ворот — слишком груб: просто круглая дыра. Обнажая сверху только шею — долгую, аристократическую — оно, увы, непроницаемо на всем ее стане, но вдруг заканчивается сразу на бедрах прямой, будто начерченной, линией. И за этой линией — тоже тень. Красота любит тень, в тенях рождается соблазн.
Поворот, арка — и вдруг потолок пропадает.
Надо мной разверзается небо. Я застываю на пороге.
Черт! Я знал, что это произойдет, но все же не был к такому готов.
Она оборачивается, улыбается мне снисходительно.
— Неужели вам не случалось бывать на крышах?
Плебей, имеет в виду она.
— По работе мне гораздо чаще приходится торчать в трущобах, Эллен. Вам не случалось бывать в трущобах?
— Ах да… Ваша работа… Эрих говорит, вы убиваете людей?
Спросив, она словно и не ждет ответа — отворачивается и движется дальше, увлекая меня за собой. И я не отвечаю. Наконец переварив небо, я отдираю себя от дверного косяка — и понимаю, куда привез меня лифт.
В подлинный рай. Не в засахаренный христианский эрзац, а в мой персональный парадиз, которого я никогда не видел, но о котором, оказывается, всю жизнь мечтал.
Вокруг меня нет стен! Ни единой. Я стою на пороге большого бунгало, занимающего середину обширной песчаной поляны в сердце одичавшего тропического сада; в разные стороны отсюда проложены настилы дорожек, и ни у одной из них не видно конца. Фруктовые деревья и пальмы, неизвестные мне кусты с огромными сочными листьями, мягкая зеленая трава — вся растительность тут, хоть она и ярка по-пластиковому, несомненно, настоящая.
Я впервые черт знает за сколько времени чувствую, что мне дышится легко. Словно всю мою жизнь у меня на груди просидела какая-то грязная толстуха, придавливая ребра и отравляя мне дыхание, а теперь я ее свалил и наконец почувствовал свободу. Давно я такого не чувствовал. Может, и никогда.
Следуя по дощатому настилу за бронзовой надменной госпожой Шрейер, я открываю для себя место, которое должно было бы быть моим домом. Тропический остров — так выглядит резиденция ее мужа. Искусственный — но об этом можно догадаться лишь по его геометрической идеальности. Это выверенный круг, метров пятьсот в сечении. Ровная кайма пляжа окольцовывает его.
Когда госпожа Шрейер выводит меня на пляж, моя выдержка наконец меня предает. Я нагибаюсь, зачерпываю горсть мельчайшего, нежного белого песка. Можно было бы подумать, что мы на атолле, затерянном где-нибудь в океанском безбрежии, если бы вместо пенистой водной кромки пляж не заканчивался прозрачной стеной. За ней — обрыв, а дальше, в десятке метров внизу — облака. Почти незаметная уже с нескольких шагов, стена поднимается вверх и превращается в огромный купол, накрывающий крышу целиком. Купол поделен на сектора, каждый из которых может сдвигаться, обнажая остров для солнца.
С одного края между пляжем и стеклянной стеной плещется синяя вода: небольшой бассейн старается быть для госпожи Шрейер куском океана. Прямо перед ним на песке стоят два шезлонга.
Она устраивается на одном из них.
— Обратите внимание, — говорит госпожа Шрейер. — Тучи всегда остаются внизу, поэтому у нас тут очень хорошо загорать.
Сам-то я видел солнце не раз, но знаю массу людей с нижних ярусов, которые в отсутствие настоящего солнца научились обходиться нарисованным, и не меньше таких, которые как о чуде мечтали бы жить под его лучами. Но, видимо, когда долго соседствуешь с чудом, начинаешь от него скучать и пытаешься выдумать ему какое-то практическое применение. Что, солнце? Ах да, от него такой естественный загар…
Второй шезлонг явно принадлежит ее мужу; так и вижу, как они, небожители, вечерами созерцают с этого Олимпа мир, который считают своим.
Я опускаюсь в нескольких шагах от нее — сажусь прямо на песок — и вглядываюсь вдаль.
— Как вам у нас нравится? — покровительственно улыбается она.
Вокруг, сколько хватает глаз, расстилается клубящееся облачное море — а над ним парят сотни, тысячи летучих островов. Это крыши других башен, обиталища богатейших и могущественнейших — потому что в мире, свинченном из миллионов замкнутых пространств, составленном из ящиков, нет ничего дороже пространства открытого. Большинство крыш превращены в сады и лесные рощи. Видимо, проживая на небесах, их обитатели все же скучают по земле.
А там, где последние видимые летающие острова тают в дымке, мироздание схватывает кольцо горизонта. Я впервые вижу ту ничтожно тонкую линию, которая отделяет землю от неба. Когда выбираешься наружу на нижних или средних уровнях, перспектива всегда загромождена, и все, что видно между стволами башен — это другие башни, а если случится просвет и между ними, в нем уж точно не высмотреть ничего, кроме башен еще более далеких.
Вживую горизонт не слишком отличается от того, что нам показывают на настенных экранах. Конечно, внутри ты всегда знаешь, что перед тобой просто картинка или проекция, что настоящий горизонт — слишком ценный ресурс, что оригинал достается лишь тем, кто способен за него платить, а остальным хватит и копии… Но ведь подлинник Гойи или Пикассо стараются заполучить единицы, а миллионам достаточно иметь репродукцию, миллиарды вообще не испытывают ни малейшей потребности ни в том, ни в другом, и сотни миллиардов даже не слышали таких имен.
Я зачерпываю горсть мелкого белого песка. Он такой нежный, что мне хочется приложиться к нему губами.
— Вы не отвечаете на мои вопросы, — делает мне замечание она.
— Простите. Что вы спрашивали?
Пока она прячется за стрекозиными окулярами своих очков, нет никакой возможности определить, действительно ли ей интересно мое мнение, или она просто исполнительно развлекает меня, как распорядился ее муж.
Ее загорелые голени, оплетенные золотыми ремешками высоких сандалий, сияют отраженным сиянием солнца. Лак на ногтях — цвета слоновой кости. Пальцы грациозны, как побеги ивы.
— Как вам у нас?
У меня готов ответ.
Я тоже должен был бы родиться беспечным лоботрясом в этом райском саду, принимать солнечные лучи, как должное, не видеть стен, никогда не знать этого мерзкого, липкого страха, жить на воле, дышать полной грудью! А вместо этого… Я совершил одну-единственную ошибку — вылез не из той матери, и теперь всю свою бесконечную жизнь должен за нее расплачиваться!
Я молчу. Я улыбаюсь. Я умею улыбаться. У меня были хорошие учителя.
— У вас тут похоже на огромные песочные часы, — я широко улыбаюсь госпоже Шрейер, просеивая белые крупинки и жмурясь на солнце, которое висит в зените, точно над стеклянным куполом.
— Вижу, для вас время все еще течет, — она, наверное, глядит на струящийся меж моих пальцев песок. — Для нас-то оно давно остановилось.
— О! Даже время бессильно перед богами.
— Но ведь это вы называете себя Бессмертными. Я-то как раз простой человек, из плоти и крови, — не слыша издевки, возражает она.
— Однако шансов умереть у меня куда больше, чем у вас, — замечаю я.
— Но вы же сами выбрали эту работу!
— Ошибаетесь, — улыбаюсь я. — Можно сказать, что работа выбрала меня.
— Значит, убивать — ваше призвание?
— Я никого не убиваю.
— А я слышала обратное.
— Они делают свой выбор сами. Я всегда следую правилам. Технически, я, конечно…
— Как скучно.
— Скучно?
— Я думала, вы убийца, а вы бюрократ.
Мне хочется сорвать с нее шляпу и намотать ее волосы на кулак.
— А вот сейчас вы смотрите на меня как убийца. Вы уверены, что всегда следуете правилам?
Она сгибает одну ногу в колене, тень захватывает больше места, воронка расширяется, теперь я на самом ее краю, сердце тянет, в груди вакуум, вот-вот ребра начнут проламываться внутрь… Как эта избалованная дрянь проделывает такое со мной?
— Правила снимают ответственность, — взвешенно произношу я.
— Боитесь ответственности? — она вздергивает бровь. — Неужели вам все же жаль всех этих бедолаг, которых вы…
— Послушайте, — говорю я. — Вам, наверное, никогда не приходило в голову, что в таких условиях, как вы, живет не все человечество? Вам, может быть, неизвестно, что пять квадратных метров на душу населения — норма даже на приличных уровнях? А вы помните, сколько стоит литр воды сверх нормы? А почем киловатт? Простые люди из плоти и крови ответят на этот вопрос, не задумываясь ни на секунду. И они знают, почему вода, энергия и пространство столько стоят. Из-за этих ваших бедолаг, которые, не присматривай мы за ними, окончательно обрушат и экономику, и башни. Включая и вашу башню из слоновой кости.
— Вы очень красноречивы для головореза, хотя я узнаю в вашем пламенном выступлении целые пассажи из выступлений моего мужа. Надеюсь, вы не забыли, что ваше будущее в его руках? — холодно интересуется она.
— С моей работой привыкаешь больше ценить настоящее.
— Ну да… Когда ежедневно воруешь будущее у других… Пресыщаешься им, видимо?
Я поднимаюсь со своего места. Сука господина Шрейера словно достала из-за пазухи набор игл и втыкает их в меня одну за другой, стараясь угадать все мои болевые точки. И я не собираюсь с мученической гримаской терпеть ее блядскую акупунктуру.
— Что вы улыбаетесь? — ее голос звенит.
— Думаю, мне пора. Передайте господину Шрейеру, что…
— Вам опять жарко? Или тесно? А вы представьте себя на месте этих людей. Ведь вы караете их только за то…
— Я не могу оказаться на их месте!
— Ах да, этот ваш монашеский обет…
— Дело не в нем! Просто я понимаю, какую цену платим мы все просто из-за того, что кто-то не может сдержать себя! Я сам плачу эту цену! Я, а не вы!
— Не врите себе! Вы просто не можете понять этих людей, потому что вы — кастрат!
— Что?!
— Вам не нужны женщины! Вы заменяете их своими таблетками! Вы ничего не можете!
— Какого черта?! Все, с меня хватит! Честь имею…
— Вы ведь такой же, как он! Идейный импотент! Смейтесь, смейтесь! Вы знаете, что я говорю правду!
— Тебе нужно, чтобы я…
— Вы… Что?! Отпустите…
— Ты хочешь, чтобы…
— Отпусти! Тут везде наблюдение… Я… Не смей!
— Эллен! — рокочет в глубине сада вельветовый баритон. — Дорогая, где вы?
— Мы на пляже! — она не сразу успевает стряхнуть со своего голоса хрипотцу, и ей приходится через миг переговаривать все заново. — Мы тут, Эрих, на пляже!
Госпожа Шрейер оправляет смятое кофейное платье, и за секунду до того, как ее муж появляется из зарослей, успевает дать мне пощечину — злую, настоящую. Теперь я ее заложник, говорю я себе в тупом безразличии. Чего мне ждать от этой суки? Отчего она так вдруг на меня взъярилась? Что вообще только что между нами произошло? Я так и не увидел ее глаз, хотя шляпа лежит, сброшенная, на песке. Медовые волосы на плече…
— А… Вот вы где!
Он выглядит именно так, как его проекции в новостях. Безупречно. Совершенно. Со времен римских патрициев такая красота и такое благородство черт возвращались на грешную землю только единожды — в Голливуд пятидесятых годов двадцатого века, чтобы потом снова исчезнуть на долгие столетия. И вот — новое их пришествие. И последнее, потому что Эрих Шрейер не умрет никогда.
— Эллен… Ты даже не предложила нашему гостю коктейли?
Я смотрю мимо нее — на песок: вокруг шезлонгов он вспахан, как арена для боя быков.
— Господин сенатор… — я склоняю голову.
В его зеленых глазах — спокойная доброжелательность юберменша и сдержанное энтомологическое любопытство. Похоже, господин Шрейер не обратил внимания ни на отброшенную шляпу, ни на следы на песке. Наверное, он вообще редко глядит себе под ноги.
— Не надо этого… Обращайтесь ко мне по имени. Вы же у меня дома, а дома я — просто Эрих.
Теперь я киваю молча, не называя его никак.
— В конце концов, сенатор — это ведь просто одна из ролей, которые я играю, так? И не самая важная. Приходя домой, я выбираюсь из нее, как из делового костюма, и вешаю в прихожей. Мы все просто играем свои роли, и всем нам наши костюмы подчас натирают… Хе-хе…
— Простите, — не выдерживаю я. — Никак не могу вылезти из своего. Боюсь, это моя шкура.
— Это ничего. Шкуру всегда можно спустить, — Шрейер дружески подмигивает, подбирая брошенную шляпу. — Вы успели осмотреться в моих владениях?
— Нет… Мы тут разговорились с вашей супругой…
Госпожа Шрейер не смотрит на меня. Похоже, она еще не определилась, казнить ей меня или миловать. Глядеть в глаза тем, кого собираешься казнить — то еще удовольствие, вот она и перестраховывается.
— Ничем более ценным я и не владею, — смеется он, передавая ей полосатую шляпу. — Коктейли, Эллен. Мне — «За горизонт», а… вам?
— Текилу, — говорю я. — Нужно освежиться.
— О! Вечный напиток… Текилу, Эллен.
Она изображает покорный поклон.
Конечно, это знак особого внимания, как и то, что Шрейер попросил свою жену встретить меня. Внимания, которого я не заслужил — и не уверен, что могу заслужить. Я вообще противник жизни в кредит. Приобретаешь нечто, что тебе принадлежать не должно, а расплачиваешься тем, что больше не принадлежишь сам себе. Идиотская концепция.
— О чем задумались? — тормошит он меня.
— Пытаюсь понять, зачем вы меня вызвали.
— Вызвал! Послушай, Эллен, а? Я вас пригласил. Пригласил познакомиться.
— Зачем?
— Из любопытства. Мне интересны такие люди, как вы.
— Таких людей, как я, сто двадцать миллиардов в одной Европе. Вы принимаете по одному в день? Я понимаю, что вы не ограничены во времени, и все же…
— Кажется, вы нервничаете. Устали? — господи, да он весь сплошь забота и участие. — Слишком долго к нам добирались?
Это он говорит про лифты. Читал мой личный файл. Тратил время.
— Сейчас пройдет, — я опрокидываю дабл-шот текилы.
Кислый желтый огонь, расплавленный янтарь, наждаком по глотке. Чудесно. Вкус странный. Не похоже на синтетику. Не похоже вообще ни на что из известного мне, и это настораживает. Я-то считал себя знатоком.
— Что это? «Ла Тортуга»? — пытаюсь угадать я.
— Нет, что вы, — он ухмыляется.
Протягивает мне кусок лимона. Любезничает. Лимон стоит дороже текилы. Я качаю головой. Для тех, кто не любит огонь и наждак, есть коктейль «За горизонт» и прочие сласти.
— Вы читали мой личный файл? — трещины на моих губах жжет спиртом. Я облизываю их, чтобы щипало подольше. — Польщен.
— Положение обязывает, — разводит руками Шрейер. — Вы же знаете, Бессмертные находятся под моей неформальной опекой.
— Неформальной, — киваю я. — Только вчера вот слышал в новостях, как вы нас называли бешеными псами.
Эллен поворачивает свои окуляры в мою сторону.
— Меня иногда упрекают в беспринципности, — подмигивает мне Шрейер. — Но у меня есть железный принцип: говорить каждому то, что он хочет от меня услышать.
Весельчак.
— Не каждому, — возражает госпожа Шрейер.
— Я о политике, любовь моя, — лучезарно улыбается ей господин Шрейер. — В политике иначе не выжить. Но семья — единственная тихая гавань, в которой мы можем побыть сами собой. Где, как не в семье, мы можем и должны быть искренны?
— Звучит прекрасно, — произносит она.
— Тогда, с твоего позволения, я продолжу, — мурлычет он. — Так вот. Люди, которые верят новостям, обычно хотят верить и тому, что государство заботится о них. Но, расскажи мы им, как именно государство о них заботится — им станет не по себе. Все, что они хотят услышать — «Не волнуйтесь, у нас все под контролем, в том числе и Бессмертные».
— Эти сорвавшиеся с цепи штурмовики, — цитирую я.
— Они просто хотят, чтобы я их успокоил. Чтобы я заверил их, что в современной Европе с ее вековыми устоями демократии и почитания прав человека Бессмертные — просто вынужденное, временное, уродливое явление.
— Вы умеете внушить уверенность в завтрашнем дне, — я слышу, как во мне открывается шлюз, сливая текилу прямо в кровь. — Знаете, мы ведь тоже смотрим новости. И слышим в них от вас, что Бессмертные — погромщики, с которыми давно пора покончить.
— Но на деле мы даем Фаланге полный карт-бланш, так?
— И объявляете, что мы совершенно неуправляемы.
— Вы же понимаете… Наше государство основано на принципах гуманности! Право каждого на жизнь свято, как и право на бессмертие! Европа отказалась от смертной казни столетия назад, и мы никогда не вернемся к ней, ни под каким предлогом!
— А вот теперь я снова узнаю того другого вас, из новостей.
— Я не думал, что вы так наивны. С вашей работой…
— Наивен? Знаете… Просто c нашей работой часто хочется поговорить с людьми из новостей, которые макают нас в дерьмо. И вот — редкий случай.
— Не думаю, что вам удастся со мной поссориться, — Шрейер усмехается. — Помните? Я же всегда говорю людям то, что они хотят от меня услышать.
— И что, по вашему, хочу услышать я?
Шрейер втягивает свой фосфоресцирующий пижонский коктейль — через соломинку, из шарообразного бокала, который нельзя поставить, не опустошив.
— В вашем файле значится, что вы исполнительны и честолюбивы. Что вы правильно мотивированы. Приводятся примеры вашего поведения при операциях. Все выглядит очень неплохо. Выглядит так, словно вас ждет большое будущее. Но продвижение по служебной лестнице у вас будто бы застопорилось.
Уверен, что в моем файле про меня есть немало и такого, о чем господин Шрейер предпочитает не упоминать — возможно, пока не упоминать.
— Поэтому, предполагаю, вам хотелось бы услышать о повышении.
Я кусаю щеку; молчу, стараясь не выдать себя.
— А так как я всегда следую своему принципу, — опять эта дружеская улыбка, — то и говорить с вами собираюсь об этом.
— Почему вы?.. Назначения в компетенции командующего Фаланги. Разве не он…
— Конечно, он! Конечно, старина Риккардо. Назначает он! А я просто разговариваю. — Шрейер машет рукой. — Вы сейчас правая рука командира звена. Так? Вас рекомендуют повысить до командира бригады.
— Десять звеньев? В моем распоряжении? Рекомендует кто?
Кровь с текилой стучится мне в голову. Это повышение через две ступени. Я выпрямляю спину. Я чуть не нагнул его жену и не разбил морду ему самому. Чудесно.
— Рекомендуют, — кивает господин Шрейер. — Что думаете?
Командовать бригадой значит перестать самому месить бутсами человеческие судьбы. Командовать бригадой значит наконец поквитаться с парой персонажей. Но главное, это значит выбраться из моей гнусной халупы в жилище попросторней… Ума не приложу, кто там может меня рекомендовать.
— Думаю, что я этого не заслужил, — слова даются мне тяжело.
— Вы думаете, что вы заслужили это давным-давно, — говорит господин Шрейер. — Еще текилы? Вы выглядите несколько рассредоточенно.
— Не понимаю, к чему эти ритуальные танцы, — мне все сложнее держать себя в руках.
— Ну да… Вы же штурмовик, а не дипломат, — усмехается Шрейер. — Ладно, урежем прелюдию. Эллен, ступай в дом.
Она не сопротивляется, на прощание вручая мне еще один дабл-шот. Шрейер провожает ее странным взглядом. Улыбка отклеилась и слетела с его губ, и на какой-то миг он забывает надеть на свое красивое лицо другое выражение. Долю секунды я вижу его настоящим — пустым. Но, обращаясь ко мне, он снова весь словно лучится.
— Раз вы смотрите новости, фамилия Рокамора вам должна быть знакома?
— Активист Партии жизни, — киваю я. — Один из руководителей…
— Террорист, — поправляет меня Шрейер.
— Тридцать лет в розыске…
— Мы его нашли.
— Арестовали?
— Нет! Нет, конечно. Вообразите себе: полицейская операция, куча камер, он мужественно сдается, чтобы избежать кровопролития, назавтра он во всех новостях. Начинается процесс, мы вынуждены сделать его открытым, все самые чудовищные болтуны подряжаются защищать его бесплатно, просто чтобы покрасоваться, он использует суд как трибуну, становится звездой… Ощущение, что я переел на ночь и вижу кошмар. А у вас?
Я пожимаю плечами.
— У меня ощущение, что мне собираются всучить пожизненный кредит.
— А кредиты вы не любите, — подхватывает Шрейер. — Так сказано в вашем файле. Но это не кредит, не переживайте. Оплата вперед.
— Боюсь, мне с вами не расплатиться.
— Со мной? Ваш долг — не перед каким-то сенатором. Ваш долг — перед обществом. Перед Европой. Рокамора — третий по важности человек в Партии Жизни, после Клаузевица и Бейнона. Они и их люди пытаются подорвать устои нашей государственности. Сломать хрупкий баланс… Обрушить башню европейской цивилизации. Но мы еще можем нанести превентивный удар. Вы можете.
— Я? Каким образом?..
— Система оповещения выявила его. Его подруга беременна. Он находится вместе с ней. Декларировать, судя по всему, они ничего не собираются. Отличный шанс для вас попробовать себя в качестве звеньевого.
— Хорошо, — я размышляю. — Но что мы можем сделать по нашей линии? Даже если он сделает выбор… Обычная нейтрализация. После укола он проживет еще несколько лет, возможно, все десять…
— Это если все пойдет по правилам. Но когда загоняешь такого крупного зверя, надо готовиться к сюрпризам. Операция опасная, сами понимаете. Может случиться все, что угодно!
Шрейер кладет руку на мое плечо.
— Вы же меня понимаете? Дело щепетильное… Подруга на четвертом месяце… Обстановка напряженная, он сам не свой… Внезапное вторжение звена Бессмертных… Он отважно бросается защищать возлюбленную… Хаос… Не поймешь уже, как все и случилось. А свидетелей, кроме самих Бессмертных, не осталось.
— Но ведь то же самое может сделать и полиция, разве нет?
— Полиция? Представляете себе скандал? Хуже — только повесить этого гада в тюремной камере. А Бессмертные — другое дело.
— Совершенно неуправляемые, — киваю я.
— Погромщики, с которыми давно пора покончить, — он прикладывается к бокалу. — Что скажете?
— Я не убийца, что бы вы там ни говорили про меня своей жене.
— Поразительное дело, — мурлычет он благодушно. — Я так внимательно разбирал ваш файл. Про вашу щепетильность там ни слова. Возможно, это что-то новое. Я дополню его сам.
— Будете дополнять, назовите это «чистоплотностью», — я смотрю ему в глаза.
— Пожалуй, даже «чистоплюйством».
— Бессмертные должны следовать кодексу.
— Рядовые Фаланги. Простые правила — для простых людей. Те, кто командуют, должны проявлять гибкость и инициативу. И те, кто хотел бы командовать.
— А его подруга? Она имеет отношение к Партии жизни?
— Понятия не имею. Вам не все равно?
— Ее тоже надо?
— Девчонку? Да, конечно. Иначе ваша версия событий может оказаться под вопросом.
Я киваю — не ему, сам себе.
— Я должен принять решение сейчас?
— Нет, у вас есть в запасе пара дней. Но хочу сказать вам: у нас есть и другой кандидат на повышение.
Его молчание столь красноречиво, что я поддаюсь.
— Кто это?
— Ну-ну… Не ревнуйте! Вы, может быть, помните его под личным номером. Пятьсот три.
Я улыбаюсь и опрокидываю двойной шот разом.
— Здорово, что у вас такие приятные воспоминания об этом человеке, — улыбается в ответ Шрейер. — Должно быть, в детстве нам все кажется гораздо более приятным, чем оно является в действительности.
— Пятьсот Третий разве в Фаланге? — мне становится тесно даже тут, на их гребаном летучем острове под самыми небесами. — Ведь по правилам…
— Всегда бывают исключения из правил, — Шрейер перебивает меня учтивым оскалом. — Так что у вас будет приятный компаньон.
— Я возьмусь за это дело, — говорю я.
— Ну и прекрасно, — он не удивлен. — Хорошо, что я нашел в вас человека, с которым можно говорить по существу и начистоту. Такую искренность я позволяю себе не со всеми. Еще текилы?
— Давайте.
Он сам отходит к переносному пляжному бару, плещет мне из початой бутылки в квадратный стакан для виски огня на два пальца. Через открытую секцию купола на остров залетает прохладный ветер, ерошит сочно-зеленые кроны. Солнце начинает скатываться в тартарары. Голова моя схвачена обручем.
— Знаете, — говорит мне господин Шрейер, передавая мне бокал. — Вечная жизнь и бессмертие — это ведь не одно и то же. Вечная жизнь — тут, — он притрагивается к своей груди. — А бессмертие — здесь, — его палец касается виска. — Вечная жизнь, — он кривится, — включена в базовый соцпакет. А бессмертие доступно только избранным. И думаю… Думаю, вы бы могли достичь его.
— Достичь? Разве я не уже один из Бессмертных? — шучу я.
— Разница такая же, как между человеком и животным, — он вдруг снова являет мне свое пустое лицо. — Очевидная человеку и неочевидная животному.
— Значит, мне еще предстоит эволюция?
— Само собой ничего не происходит, — возражает Шрейер. — Животное из себя надо вытравливать. Вы, кстати, не принимаете таблетки безмятежности?
— Нет. В последнее время — нет.
— Очень зря, — добродушно укоряет меня он. — Ничто так не поднимает человека над собой, как они. Советую попробовать снова. Ну что ж… На брудершафт?
Мы чокаемся.
— За твое развитие! — Шрейер высасывает все содержимое своего шара до дна, опускает его на песок. — Спасибо, что пришел.
— Спасибо, что позвали, — улыбаюсь я.
Когда бог ласково говорит с мясником, для последнего это скорей означает грядущее заклание, чем приглашение в апостолы. И кто, как не мясник, сам играющий в бога со скотиной, должен бы это понимать.
— Что же это? «Франсиско де Орелльяна»? — я впускаю в пустой стакан лучи заходящего солнца, гляжу на просвет.
— «Кетцалькоатль». Ее лет сто, как не производят уже. Я не пью, но говорят, вкус изысканный.
— Не знаю, — я повожу плечами. — Главное — эффект.
— Мда. Ну — и на всякий случай… Если вдруг будешь колебаться. Пятьсот Третьего мы туда тоже отправим. Не явишься ты, придется отрабатывать ему, — он вздыхает, как бы показывая, насколько ему был бы неприятен этот вариант. — Эллен тебя проводит. Эллен!
На прощание он жмет мне руку. У него хорошее рукопожатие и приятная ладонь — крепкая, сухая, гладкая. При его работе это, наверняка, полезно, хотя и ровным счетом ни о чем не говорит. Об этом я знаю по работе собственной — а через меня человеческих рук тоже проходит немало.
Он остается на пляже, а госпожа Шрейер — без шляпы — эскортирует меня к лифту. Скорее, даже буксирует — учитывая мое состояние и то, что она по-прежнему плывет впереди, а я гребу в ее кильватере.
— Ничего не хотите сказать? — интересуется ее спина.
Все происходящее со мной сегодня решительно ничем не напоминает реальность, и это придает мне нездорового легкомыслия.
— Хочу.
Мы уже в доме. Комната с темно-красными стенами. На одной из них — огромное золотое лицо Будды, выпуклое, все в паутине трещин, глаза закрыты, веки разбухли от накопившихся за тысячу лет снов. Под Буддой — широкая тахта, обитая вытертой черной кожей.
Она оборачивается.
— Что же?
— Вы не зря тут живете. Под этим вашим куполом. Загар, действительно, очень… — я провожу взглядом по ее ногам — от сандалий до отреза платья. — Очень-очень ровный. Очень.
Эллен молчит, но я вижу, как вздымается под кофейной тканью ее грудь.
— Кажется, вам немного жарко, — замечаю я.
— Мне немного тесно, — она поправляет ворот своего платья.
— Ваш муж рекомендовал мне принимать таблетки безмятежности. Считает, что надо вытравливать из меня животное.
Госпожа Шрейер медленно, словно сомневаясь, поднимает руку, берется за оправу и снимает очки. Глаза у нее огромные, изумрудные, охваченные карим ободком, но какие-то будто матовые, будто драгоценные камни слишком долго без внимания пролежали на витрине. Высокие бронзовые скулы, гладкий лоб, тонкая переносица… Без очков, словно без панциря, она кажется совсем хрупкой — той приглашающей, вызывающей женской хрупкостью, которую мужчине хочется изорвать, расцарапать, затоптать.
Я оказываюсь рядом с ней.
— Не надо, — говорит она.
Беру ее за кисть — сильнее, чем надо — зачем-то тяну вниз. Не знаю, хочу ли я сделать ей приятно или больно.
— Больно, — она пытается высвободиться.
Я отпускаю ее. Она делает шаг назад.
— Уходите.
До самого лифта Эллен молчит, а я созерцаю ее затылок, наблюдаю, как льется и сияет мед ее волос. Я чувствую, как из-за какой-то неуклюжести, неверного движения, спонтанная сила тяготения, почти столкнувшая нас, нечаянных, в космическом пространстве, слабнет, как траектории наших судеб вот-вот растащат нас друг от друга на сотни световых лет.
Но собираюсь с мыслями я лишь когда уже стою в кабине.
— Чего не надо?
Эллен чуть прищуривается. Она не переспрашивает. Она помнит свои слова, обдумывает их.
— Оставьте это свое животное в покое, — произносит она. — Не надо его травить.
Двери закрываются.
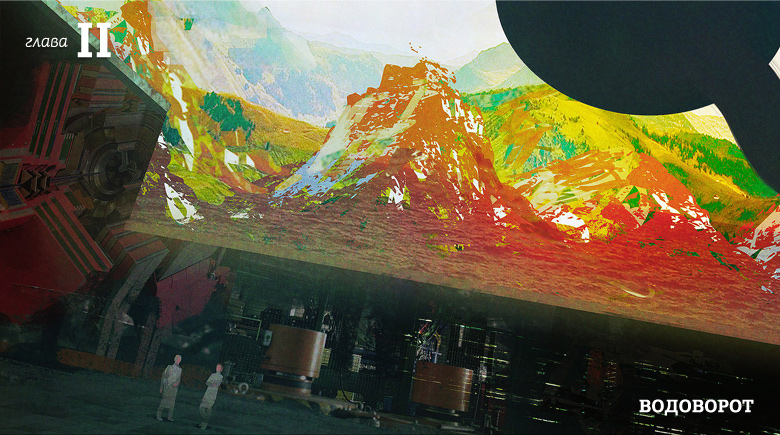
Мне нельзя здесь находиться.
Но я слишком взбудоражен, чтобы идти домой, а больше идти мне некуда, поэтому я тут. В купальнях «Источник».
Отсюда, из моей чаши, кажется, что купальни занимают всю вселенную.
Сотни больших и малых бассейнов «Источника» веерными каскадами поднимаются к теплому вечернему небу. Чаши бассейнов сообщаются прозрачными трубами. Из помещений для переодевания подъемником взбираешься по стометровому стеклянному стволу, на котором и зиждется вся фантасмагорическая конструкция, на самую вершину — и попадаешь в обширный бассейн. А из него уже можно с пенистыми ручьями сплавляться по расходящимся в разные стороны трубам вниз, от одной чаши — к другой, пока не найдешь такую, где захочется остаться.
Каждая чаша, заполненная морской водой, пульсирует своим цветом и в такт той мелодии, которая играет внутри нее — но какофонии не возникает: управляемое одним дирижером, пение тысячи чаш сливается в единый грандиозный оркестр, выплавляющий из разноголосицы великую, неземную симфонию. Чаши, как и трубы — прозрачны; если смотреть на них сверху, они кажутся соцветиями на ветвях древа мироздания, если глядеть снизу — сонмами радужных мыльных пузырей, которые ветер уносит в преднощную синь. И многоцветное свечение этих пузырей тоже согласовано, синхронизировано: гроздья висящих в пустоте бассейнов, перевернутых стеклянных куполов то принимают общий оттенок, то начинают передавать друг другу по трубам сначала один цвет, а потом другой — и словно огонь взбегает вверх по этому удивительному хрустальному баобабу, соединяющему небеса и земную твердь.
Стоит он посреди зеленого горного плато, окруженного заснеженными отрогами; солнце якобы только что скрылось за самым дальним из них. Конечно, и седые пики, и оцепленная ими равнина под мшистым ковром, и гаснущее небо — просто проекции. Ничего этого нет, а есть только громадный кубический бокс, в центре которого установлено невероятное сооружение из псевдо-стекла, прозрачного композита.
Но подделку замечаю только я, потому что сегодня я видел настоящее небо и настоящий горизонт. Остальных, конечно, ничто не смущает. Разрешение и объемность у проекций таковы, что человеческий глаз неспособен различить подделку уже с пары десятков метров. Ничего; люди привыкли не заходить за ажурные ограждения, которыми обозначаются пределы комфортного самообмана.
Я и сам хочу поверить в эти горы и в это небо; я пью еще, и граница между проекцией и реальностью плавится и тает.
Словно сонные тропические рыбки в аквариумах, нежатся в чашах бассейнов купальщики в ярких тряпках. «Источник» — пиршество для глаз, сады свежести, красоты и желания, храм вечной юности.
Тут нет ни единого старика и ни одного ребенка: хозяева «Источника» не хотят доставлять своим посетителям ни малейшего морального и эстетического дискомфорта. Пусть те обитают в своих резервациях, где никого не смущают их отклонения, а стеклянные сады открыты только для тех, кто сохраняет свои молодость и силу.
Девушки и юноши приходят сюда и поодиночке, и парами, и большими группами; любой, спускаясь вниз по трубам, может подобрать чашу себе по вкусу. С музыкой, которая созвучна его настроению. С размерами, подходящими для уединенного созерцания, или для любовного слияния, или для дружеских игр. С соседями молчаливыми, не проявляющими к другим никакого интереса, или с теми, кто пришел сюда за негой и приключениями и электризует своим настроением всю чашу.
Ветви хрустального баобаба — путаный лабиринт, и в нем можно забраться в такие уголки, в которых никто не потревожит… Но не всех смущают чужие взгляды — некоторые, едва заискрив между собой, сплетаются похотливым жгутом в шаге от случайных свидетелей, нечаянно касаясь их в страстной судороге, короткими вздохами или сдавленным стоном одних заставляя отворачиваться, других — привлекая к себе.
Для обычных людей купальни — заповедник удовольствий, аттракцион счастья, один из самых любимых способов провождения вечности.
Но для таких, как я, они порочны — и запретны. И тем особенно сладки.
Я полулежу в небольшой чаше примерно посредине нарисованного мира, и половина пузырей-бассейнов парит высоко над моей головой, в то время как другая половина раскинулась внизу. Запах ароматических масел — чувственный, тяжелый — пропитывает воздух. Оболочка моего бассейна сейчас приглушенно вспыхивает фиолетовым, акустика прямо сквозь кожу притрагивается к моим органам негромкими, но проникающими басами; музыка спокойная и тягучая, но вместо того, чтобы убаюкивать, она возбуждает воображение.
Сквозь стекло я вижу чашу внизу — в ней морскими звездами раскинулись две молодые девушки, держась за руки — трогательно, лишь указательными пальцами — они словно парят в воздухе.
У одной, смуглой, через желто-флюоресцирующую ткань символического купальника проступают коричневые пятнышки сосков. Другая, рыжая с молочно-белой кожей, прикрывает обнаженную грудь рукой; длинные волосы, разметанные по воде, золотой аурой обрамляют ее узкое, немного детское лицо. Она смотрит вверх, на поднимающиеся в небо мерцающие стеклянные шары, и в какой-то миг мы встречаемся глазами. И вместо того, чтобы отвести взгляд, она медленно улыбается мне.
Я возвращаю ей улыбку и отворачиваюсь, закрываю глаза. Течение соленой воды чуть покачивает меня, и текила морским прибоем шумит в ушах. Я знаю, что могу сейчас соскользнуть вниз по трубе и через несколько мгновений тоже держать рыжеволосую девчонку за руку, знаю, что она не откажется от своих безмолвных обещаний. Купальни — место, куда приходят за всплеском и за выплеском; раньше с той же целью люди посещали ночные клубы. В прозрачных чашах мы топим свое одиночество, разбавляем его поспешными знакомствами, горячечными стремительными схватками; но внезапная близость заставляет нас чувствовать себя неловко, и мы бежим от этой неловкости, друг от друга — вниз, прочь по стеклянным трубам.
Мы? Я причислил себя к ним. Нет, не мы, а они.
Нам, Бессмертным, вход в купальни воспрещается кодексом чести. Рассадник разврата — так они называются в правилах.
Дело, конечно, не в том, что мы можем оказаться подвержены сиюминутному вертиго, дело не в коротком отчаянном сцеплении половых органов, а в том, что может стать результатом сцепления. В конце концов, предписание Бессмертным принимать таблетки безмятежности — пока что лишь настоятельная рекомендация. Животная природа, которую старается извести в нас сенатор и прочие покровители Фаланги, ими нехотя признается. Для нас открыты спецбордели со шлюхами, умеющими выполнять спецзаказы и оберегать спецсекреты. Однако за их пределами мы должны вести себя как кастраты.
Я должен. Что я здесь делаю?
Брызги!
Взрыв смеха — девичьего, чистого, звонкого. Совсем рядом. В моей чаше, где я хотел спрятаться ото всех — и надеялся быть обнаруженным. Еще фонтан. Я молчу, терплю, притворяюсь спящим.
Шепот — решают, двинуться ли дальше, вниз по каскадам, или остаться тут. Второй голос — мужской. Обсуждают меня. Девушка хихикает.
Я подглядываю, притворяясь, что меня их игра совершенно не интересует.
По трубе ко мне в бассейн примчались двое. У парня оливковая кожа, глаза цвета анодированного алюминия, руки дискобола и смоляной чуб; девушка — черная, точеная. Остриженная головка с удивительным изяществом посажена на высокую шею. Худые плечи. Груди-яблоки. Сквозь дрожащую воду — мускулистый живот и узкие бедра — колеблются, мерещатся, словно их только вот-вот отлили из эбонитового композита и они еще не успели принять окончательную форму.
Они прижимаются к бортику с моей стороны чаши, хотя противоположная никем не занята. Я решаю: они так сделали, чтобы я не мог за ними наблюдать. И хорошо. Не собираюсь подсматривать… Думаю даже сплавиться дальше, оставив их наедине, но… Остаюсь. Зажмуриваюсь снова.
Незаметно растворяю в морской воде минуту своей жизни, потом еще одну. Ничего сложного: теплая соленая вода может разъесть бесконечно много времени. Именно поэтому все купальни заполнены круглые сутки, несмотря на свою дороговизну.
Снова смех негритянки — но теперь он звучит иначе: приглушенно, смущенно. Шлепки по воде — шуточная борьба. Всхлип. Вскрик. Тишина.
Мне неспокойно, и я открываю глаза.
По воде плывет кусочек материи, топ ее купальника — неприлично-алый, и алым цветом возбужденно пульсирует чаша. Тряпица подплывает к устью трубы, задерживается на секунду, будто на краю водопада — и уносится вниз.
Хозяйка не замечает его потери. Распятая, прижатая своим другом к борту бассейна, она медленно открывается ему. Я вижу, как ее сведенные плечи постепенно расслабляются, отступают назад, как она принимает его натиск. Бурлит вода. Всплывают еще кусочки ткани. Он разворачивает ее спиной — и зачем-то лицом ко мне. Глаза у нее полуприкрыты, затуманены. Сахар зубов сквозь вывернутые африканские губы.
— Ах…
Я сначала судорожно ищу ее взгляда, а когда наконец вылавливаю его, смущаюсь. Оливковый Аполлон подталкивает ее ко мне — еще, еще, с налаживающимся ритмом. Ей не за что держаться, и она оказывается ко мне все ближе; мне нужно было бы уйти, мне нельзя, но я остаюсь, сердце бьется.
Теперь она заглядывает мне в глаза — хочет установить связь. Зрачки блуждают, она смотрит на мои губы… Я отворачиваюсь.
Тут везде наблюдение, говорю я себе. Остановись. Здесь за всеми смотрят. Тебя вычислят. Ты не должен даже находиться тут, а уж если…
В новом мире люди не стесняются своего естества, они готовы выставлять себя напоказ, интимность стала публичностью. Им нечего скрывать, не от кого. Семья после введения закона о Выборе потеряла смысл; она как зуб, в котором стоматолог убил нерв: через некоторое время сама собою сгнила и развалилась.
Все. Пора, пока не поздно. Ухожу. Уплываю.
— Ну… — шепчет она. — Ну пожалуйста… Ну…
Бросаю взгляд. Только один.
Толчок… Толчок… Она в шаге от меня. Слишком близко, чтобы не соскользнуть… Я на самом краю… Тянется ко мне… Вытягивает свою шею… Не может дотянуться.
— Ну…
Я уступаю. Встречаю ее.
Она пахнет фруктовой жвачкой. Губы у нее мягкие, как мочка уха.
Целую ее, доступную, просящуюся. Беру ее за затылок. Ее пальцы сбегают вниз по моей груди, по животу, неуверенно — и там царапают меня. Ее настигает боль, соленая и сладкая, и она хочет поделиться ей. Ее сбивчивый, бессмысленный шепот громче слаженного пения тысячи чаш. Симфония тел мощней симфонии мелодий.
Еще чуть, и я пропал.
И тут откуда-то сверху доносится визг. Отчаянный, истошный — я таких никогда не слышал, кроме как, разве, на работе. Он нарушает гармонию музыки купален, и его мечущееся эхо не дает этой гармонии восстановиться. А сразу вслед за этим визгом — еще один, а потом целый хор испуганных вскриков.
Наше трио распадается. Негритянка растерянно жмется к дискоболу, я вглядываюсь вверх, в загадочную возню, которая разворачивается над нашими головами, в одном из бассейнов. Люди пихают друг друга, что-то кричат — но слов не разобрать. Потом выбрасывают в трубу что-то белесое, грузное — и оно медленно съезжает в чашу уровнем ниже. Через секунду тех, кто блаженствовал в ней, заражает паника. Сцена повторяется: женские вопли, возгласы отвращения, кутерьма. Потом мельтешащие тела вдруг застывают словно парализованные.
Там происходит что-то странное и страшное, и я никак не могу понять, в чем дело. Кажется, будто в бассейн попало какое-то омерзительное животное, монстр, что оно медленно спускается по трубам к нам, по пути заражая безумием всех, кто на него взглянет.
Новый всплеск шумной борьбы — и нечто покидает бурлящую чашу, ползет дальше. На секунду мне кажется, что это человек… Но вот движение… Оно вяло плюхается в бассейн над нами. Что это может быть? Оболочка чаши мерцает темно-синим, она почти непроницаема, и мне опять не удается понять, что же такое спускается к нам. Даже находящиеся там люди не сразу осознают, что видят перед собой. Притрагиваются к нему…
— Господи… Это же…
— Убери это! Убери это отсюда!
— Да это…
— Не трогай его! Пожалуйста! Не надо!
— Что делать? Что с этим делать?!
— Убери! Не надо его тут!
Наконец странное создание выпихивают из чаши, и оно неспешно приближается к нашей. Я загораживаю спиной бритую девчонку и ее дискобола; они совсем потеряны, но парень хорохорится. Что бы там ни ползло к нам, я подготовлен к встрече лучше них обоих.
— Черт…
У меня наконец получается толком рассмотреть его. Тяжелый тугой мешок, голова болтается, будто чужая и пришитая, конечности противоестественно вывернуты, то загребают, то вроде бы цепляются, словом, творят, что вздумается — каждая независима. Не удивительно, что он сеет вокруг себя такую панику.
Это мертвец.
И вот он втаскивается в мой бассейн — ныряет с головой, лицом вниз, и сидит под водой. Его руки зависают на уровне груди и, словно привязанные к нитям циркулирующих через купальни потоков, чуть заметно пошевеливаются: туда-сюда, туда-сюда. Кажется, что это он дирижирует бездушным хором купален. Глаза у него открыты.
— Что это? — ошарашенно бормочет дискобол. — Он что…
— Он умер? Он умер, да?! — у его подружки истерика. — Он умер, Клаудио! Он умер!
Девчонка замечает, что мертвец смотрит — в никуда, созерцательно — но ей чудится, что он бесстыдно разглядывает под водой ее прелести. Она сначала прикрывает срам руками, а потом не выдерживает и бросается вниз по трубе — в чем мать родила, лишь бы избавиться от кошмарного соседства. Дискобол крепится — не хочет показаться трусом, но и его потряхивает.
Естественно. Они ведь никогда не встречались со смертью — как и все те, кто до них выталкивал труп из своих бассейнов. Они не знают, что с нею делать. Они считают ее уродливым пережитком, они знают о ней из исторического видео, или по новостям из какой-нибудь России, но никто из их близких и дальних знакомых никогда не умирал. Смерть отменили много столетий назад, победили ее, как побеждали до этого черную оспу или чуму; и как черная оспа, в их представлении смерть существует где-то в герметичных резервациях, в лабораториях, откуда не сможет никогда вырваться — если они сами не призовут ее на себя. Если они будут жить, не нарушая Закон.
А она выбирается оттуда, словно пройдя сквозь стены, и заявляется непрошеная в их сады вечной юности. Равнодушный и жуткий Танатос вторгается в царство грез Эроса, как хозяин усаживается в самую середину и глядит своими мертвыми глазами на молодых любовников, на их разгоряченные срамные места, и под его взглядом те увядают.
В тени мертвеца живые вдруг теряют уверенность, что сами не умрут никогда. Они пытаются оттолкнуть его от себя, выпихивают его — и тем самым помогают ему продолжить свое шествие. И посланец уходит. Он уже сделал свое дело: напомнил людям-жуликам, что бессмертие ими украдено, как некогда был украден огонь.
А я не прогоняю его. Загипнотизированный, я смотрю Танатосу в лицо. Даже когда сам работаешь у смерти курьером, лично со своим работодателем встречаешься нечасто. Наверное, проходит всего несколько секунд, но в тени мертвеца время замерзает, загустевает.
— Что делать? — лепечет Клаудио; он все еще тут, хотя из оливкового и превратился в серого.
Я-то не имею права тушеваться перед ней. Нас ведь учили с ней обращаться.
Подплываю к телу, изучаю. Блондин, полноватый, лицо напуганное, веки вздернуты, рот приоткрыт; ран никаких не заметно. Хватаю его подмышки, приподнимаю его над поверхностью. Он свешивает голову, изо рта и носа течет вода. Нахлебался воды и утонул, вот и весь диагноз. Тут такого почти никогда не случается: наркотики и алкоголь внутри не продаются, а без них утонуть, когда воды по грудь, непросто.
Внезапно я понимаю, что знаю, как действовать — из учебных материалов, из интернатской практики. Утопленников еще минут через десять, а иногда и через полчаса можно вытащить с того света. Искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. Черт, а я думал, что давно забыл эти слова за ненадобностью!
Я обнимаю его и волоку к краю чаши — там есть выступ-скамья. Он не хочет сидеть на воздухе, просится обратно под воду, так и норовит слезть с сиденья. Клаудио остолбенело уставился на меня.
Так… Легкие у него сейчас наполнены водой, верно? Моя задача — освободить их. Заместить ее воздухом. Потом попытаться запустить сердце и снова сделать искусственное дыхание. И снова сердце. И не останавливаться, пока не получится. Должно получиться, хоть я никогда этого и не делал.
Я склоняюсь над утопленником. Губы у него синие, глаза плачут морской водой, соленой, как настоящие слезы. Он смотрит мимо меня, в небо.
Черт! Трудно будет приложиться к его рту. Надо бы его очеловечить. Дать ему имя, что ли. Пусть будет Фред; с Фредом делать это веселей, чем с неопознанным трупом мужчины.
Набираю полную грудь, накрываю ртом его губы. Они холодные, но не такие холодные, как я думал.
— Ты что делаешь?! — в голосе серого Клаудио — ужас и омерзение. — Рехнулся?!
Я начинаю дуть — и тут его челюсть отпадает, и прямо мне в рот вываливается его язык — вялая мясистая тряпка — касаясь моего языка. Похоже на поцелуй.
Я отдергиваюсь от утопленника, забыв его имя, не понимая еще, что случилось — а когда понимаю, меня чуть не выворачивает.
— Я охрану вызову!
Еле отдышавшись, смотрю на него, потом на Клаудио, который теперь приобрел зеленоватый оттенок — наверное, отражая своей ухоженной кожей свечение чаши.
— Фред, — говорю я трупу. — Я вообще-то для тебя стараюсь, так что давай, брат, без этой херни.
Размахиваюсь и, как молотом, бью его по грудной клетке — там, где, по моей информации, должно находиться его сердце.
— Тебя в психушку надо! — орет на меня дискобол.
Фред опять поехал на дно. Если он продолжит в том же духе, я его не откачаю. Я оборачиваюсь к Клаудио.
— Иди сюда!
— Я?
— Живо! Приподними его, так чтобы лицо было над водой!
— Что?!
— Я говорю, приподними его! Вот тут, подхвати его вот тут!
— Я не буду к нему прикасаться! Он мертвый!
— Послушай меня, дебил! Его еще можно спасти! Я пытаюсь его реанимировать!
— Я не буду!
— Будешь, гад! Это приказ!
— Помогите!
Он рыбкой бросается в трубу, и я остаюсь с Фредом один на один. Пересиливаю себя, прижимаю свой рот к его рту, съеживаю язык — вдыхаю!
Отнимаю губы, размахиваюсь — луплю его по сочленению ребер. И снова вдуваю в него воздух.
Удар! Выдох! Удар! Выдох! Удар!
Как узнать, что я все делаю правильно? Как узнать, что у меня еще есть шанс? Как узнать, сколько времени он провел с легкими, полными воды?
Выдох!
Как узнать, спряталось ли его сознание в каком-то дальнем закутке отрезанного от кислорода мозга, будто в крепости, осажденной прибывающим морем, и беззвучно кричит мне «Я тут!», или он уже давно сдох, и я воюю с куском мяса?
Удар!
Выдох!
Подтягиваю его, подкладываю ему руку под голову, чтобы вода не заливалась обратно.
— Хватит ерзать! Хватит, сука, ерзать!
Удар! Выдох!
Он должен ожить!
— Дыши давай!
Фред не хочет оживать. Но чем дольше он не просыпается, тем больше я завожусь, тем отчаянней молочу его по сердцу, тем яростней вдыхаю в него свой воздух. Не хочу признаться себе, что не могу его спасти.
Удар!
Как быть уверенным, что я все делаю правильно?
Выдох!
Он не движется. Не моргает, не откашливается, не блюет водой, не глядит на меня ошарашенно, не выслушивает недоверчиво мои объяснения, не благодарит за спасение. Наверное, я сломал ему все ребра, порвал легкие, но он все равно ничего не чувствует.
— Давай так… Давай договоримся…
Последний удар! Последний вдох!
Чудо!
Ну! Чудо?!
Он чуть колышется…
Нет. Опять просится в воду.
Я опускаю руки.
Фред смотрит вверх. Мне бы хотелось сказать ему, что его душа сейчас где-то там, на небе, где блуждает его взгляд. Так говорили о покойниках тысячу лет назад. Но я не хочу ему врать: душой Фред, как и все мы, не пользовался, да и небо над его болтающейся головой — все равно нарисованное.
— Слабак! — говорю я ему вместо этого. — Гребаный слабак!
Удар! Удар!
Удар!!!
— Отойдите от него, — произносит у меня за спиной строгий голос. — Он умер.
Оборачиваюсь: двое в белых гидрокостюмах с логотипом «Источника». Секьюрити.
— Я пытаюсь реанимировать его!
Фред сползает с сиденья, плюхается лицом в воду.
— Успокойтесь, — говорит охранник. — Вам нужна психологическая помощь. Как вас зовут?
Они извлекают откуда-то сетчатый продолговатый мешок — белый с какими-то разноцветными по бокам, разворачивают его под водой и очень споро загоняют в него Фреда. Застегивают парня с головой в мешке. Получается что-то вроде разноцветной надувной колбасы для купания.
— Как вас зовут? — повторяет охранник. — Возможно, будут искать свидетелей.
— Ортнер, — улыбаюсь я. — Николас Ортнер 21К.
— Мы надеемся, что вы не станете распространять информацию о том, что видели, господин Ортнер, — говорит секьюрити. — «Источник» очень щепетильно относится к своей репутации, и наши юристы…
— Не волнуйтесь, — отвечаю я. — Вы обо мне больше не услышите.
Один из охранников ныряет в трубу, другой приподнимает Фреда-колбасу и отправляет его в последнее плавание, а потом замыкает траурную процессию. Я слежу за ним. В бассейне уровнем ниже разноцветный мешок еще вызывает страх, двумя уровнями ниже — брезгливость, тремя — любопытство, четырьмя — он уже никому не интересен.
Я отцепляю взгляд от Фреда, откидываюсь на бортик чаши. Мне надо убираться отсюда, но я выжидаю. Пусть охранники дотолкают его уже до выхода, не хочу больше встречаться ни с ними, ни с утопленником. Закрываю глаза, пытаюсь перевести дыхание.
Чувствую себя выжатым, глупым, беспомощным. Вернуть жизнь — не то же самое, что отнять ее, кретин! Зачем ты это сделал?! Зачем пытался откачать его? Почему не сбежал или не сплавил труп дальше? Перед кем решил покрасоваться? Что хотел себе доказать?!
Еле дождавшись, пока развеселый мешок и его конвоиры скроются из виду, я бросаюсь вниз. Случайно бьюсь ногой о бортик, и рад боли. Мне хочется ударить себя. Хочется разбить себе свою тупую башку…
По дороге домой я не могу избавиться от мыслей о Фреде: как его угораздило помереть? При средней продолжительности жизни лет в семьдесят умирать не так обидно, как если эта продолжительность стремится к бесконечности, а статистику приземляют только преступники и такие вот неудачники, как этот. А он вполне мог бы просуществовать еще тысячу лет, оставаясь все таким же молодым, может, похудел бы даже за это время… Если бы я сумел его вытащить.
А если бы я не пробовал этого сделать, мой визит в купальни мог бы остаться в тайне; теперь же меня будут искать как свидетеля и рано или поздно найдут.
Я проталкиваюсь сквозь жужжащее человеческое месиво.
Ненавижу толпу. Каждый раз, когда я оказываюсь в местах избыточного скопления человеческих тел, облепляющих меня, жмущихся ко мне, не дающих мне двигаться и дышать, виснущих на моих локтях, топчущихся на моей обуви — меня начинает трясти. Мне хочется заорать, смести их всех разом, бежать вон, ступая по чужим ногам, по головам… А бежать некуда. Сколько бы башен мы ни строили, всем места не хватит.
У меня есть свой способ прохода через общественные места, я называю его «ледокол». Двигаться надо немного боком, выставляя вперед правый локоть и уперев правый кулак в левую ладонь: так превращаешь свое тело в жесткую рамную конструкцию. Переносишь вес вперед, как бы заваливаясь, и локтем вклиниваешься в толпу. Вдавливаешь его между толкущихся людей и вдавливаешь самого себя следом. И пока остальные тычутся друг в друга, трутся, злятся, притрагиваются друг к другу тайком, списывая все на толчею, я вспарываю это броуновскую свалку и пру насквозь.
Не изобрети я этот метод — давно рехнулся бы. Застрял бы, наверное, в толпе и потерялся в ней навсегда.
Еле добираюсь до шлюза в свой спальный блок. Сжимаю в кармане коммуникатор. Услышав его беззвучный зов, шлюз впускает меня внутрь. Наконец вырвался из давки.
От пола до потолка — двадцатиметровой высоты оранжевые стены поделены на ровные квадратики, в каждом — дверка; к стене прикручена решетка из лестниц и трапов: вход в каждый жилой куб — отдельный, снаружи. Говорят, архитекторы вдохновлялись старинными мотелями — романтика, все дела. Еще говорят, что такая открытая конструкция и ее жизнерадостная яркая раскраска должны помогать страдающим клаустрофобией.
По первому вопросу: имел я такую романтику.
По второму: страдающим клаустрофобией поможет цианистый калий.
В душ хочется после всей этой гребаной толкучки.
На входе в блок — трейдомат, продающий всякую всячину: протеиновые батончики, спиртное в композитных бутылках, разрешенные таблетки. Рядом — девчонка-продавщица: стрижка под пони, огромные голубые глаза, белая рубашка расстегнута до третьей пуговицы.
— Привет! — говорит мне она. — Будете что-нибудь? У нас свежие кузнечики!
— «Картель» есть?
— Конечно! Мы специально для вас всегда держим про запас бутылочку.
— Очень мило. Давай. И кузнечиков своих.
— Сладких или соленых? Есть еще со вкусом картошки или салями!
— Соленых. Кажется, все.
— Ну конечно, соленых! — она смешно хлопает себя ладошкой по лбу. — Как всегда.
Я пытаюсь вспомнить, что еще собирался купить… Что-то такое, что мне очень было нужно — и именно сегодня. Коммуникатор на руке просит приложить к экрану указательный палец — авторизовать оплату. Автомат вручает мне пакет с покупками.
— Чуть не забыла! Не хотите попробовать новые таблетки счастья?
— Таблетки?
— Очень хорошие, правда! Эффект потрясающий! Действует до трех дней. А потом — никаких отходняков.
— Откуда ты знаешь?
— Что?
— Откуда тебе-то знать, что эффект потрясающий? Есть, с чем сравнить?
— Что вы имеете в виду?
— Ты что, когда-нибудь была счастлива? — разжевываю я. — Хотя бы секунду, а?
— Вы же знаете, что я не могу…
— Конечно, не можешь! Так за каким дьяволом ты…
— Зачем вы так? — в ее голосе обида настолько неподдельная, что мне даже становится неловко; абсурд.
— Ладно… Ладно, прости, — зачем я ей это говорю? — Сорвался. Был трудный день… Длинный и очень… Странный.
— Странный?
— Кажется, я наделал массу вещей, которые делать не собирался. Знаешь, как бывает?
Она жмет плечиками, хлопает ресницами.
— Твердо решишь никогда не делать что-то, и вдруг приходишь в себя, когда уже по локти в нем, в этом самом, и заднего хода уже не дашь, — объясняю я. — И не поймешь, как так случилось. И спросить не у кого. И поговорить об этом не с кем.
— Вам одиноко?
Она глядит мельком, искоса; и так искусно это сделано, что я обо всем забываю и покупаюсь.
— Ну… А тебе?
— Я просто подумала, что если вам одиноко, то эти наши новые таблетки счастья — может быть, это именно то, что вам сейчас нужно… Не хотите попробовать?
— Не хочу. Не хочу я твоих гребаных таблеток! Счастье невозможно сожрать, понимаешь?! И хватит мне его впаривать!
— Эй, дядь… Ты не переживай так, — глумливый смешок за моей спиной. — Ты же в курсе, что она ненастоящая? Может, залезешь на нее еще? Только давай по-быстрому, тут очередь!
— Да пошел ты! — я оборачиваюсь.
Какое-то рыжее бесполое чучело в красном пушистом балахоне. Оно делает шаг вперед, нагло занимая мое место у диспенсера.
— Спасибо за покупку, — говорит мне на прощание продавщица.
— Давай сюда Изабеллу, — требует чучело у трейдомата. — Не хочу, чтобы меня обслуживала эта фригидная кукла.
Корыстная девчонка с голубыми стекляшками покорно исчезает, а на ее месте возникает другая проекция: кудрявая широкобедрая южанка с тяжелой грудью и вульгарным макияжем.
— Что уставился? Вали давай, ушлепок! — кивает мне чучело. — Привет, Иза! Ты как?
На прощание я разбиваю ему бровь.
Странный день.
И только когда я возвращаюсь домой, втискиваюсь в свой куб, вспоминаю, что на самом деле мне было нужно в трейдомате. От пачки снотворного остался всего один шарик. Главное — не забыть купить новую завтра, иначе…
Озираюсь: как всегда, идеальный порядок. Кровать заправлена, одежда на полке выглажена и рассортирована, форма — отдельно, два чистых комплекта заготовлены, обувь вся в чехлах, на откидном столике-пульте — коробка с сувенирами, на стене висит старая пластиковая маска Микки-Мауса, дешевая, из тех, что раньше продавали детям в парках развлечений.
Больше ничего лишнего: не люблю лишнее. Кто-то, может, считает, что в кубе размером два на два на два по другому и нельзя, но я возражу. Если человек не склонен к порядку, он и в гробу устроит бардак.
Все нормально. Все нормально. Все нормально.
Прежде, чем меня успевает зажать в тисках, я приказываю дому:
— Окно! Тоскана!
Одна из стен — та, что напротив койки — вспыхивает и становится окном от пола до потолка; за ним — мои любимые холмы, и небо, и облака. Все фальшивка, но в моем положении и суррогат хорош.
Я прикладываюсь к бутылке, потом выдавливаю из упаковки последнюю сонную таблетку, кладу в рот, умещаюсь на койке и рассасываю шарик, глубоко дыша и не сводя глаз с картины за окном.
Главное — продержаться десять минут. Шарику нужно ровно столько, чтобы отправить меня в никуда. Пусть сами жрут свои таблетки счастья и безмятежности, а мне оставят только мои маленькие кругляши. Они отключают ровно на восемь часов, а главное — гарантированно никаких снов. Гениальное изобретение. С ними я буду и безмятежен, и счастлив.
Снотворное приятно кислит на языке. Всегда выбираю с лимонным вкусом — хорошо к текиле; не все же могут позволить себе настоящий лимон. А уж настоящую солнечную Тоскану — и вовсе никто. Да и хер с ней.
Я выключаю свет, застегиваю себя в темноту. Я — веселый бело-радужный мешок, и меня затягивает в прозрачную трубу, с одного конца которой — чаша с морской водой, а с другой — небытие.

Ладно, готов признать, что бывают нормальные лифты.
Допотопные, прозрачные, которые ползают по внешним стенам старых башен — вот в этих я готов немного поторчать взаперти, хоть и кажется, что им требуется целая вечность, чтобы спуститься с верхних ярусов вниз.
Этот — большой, человек тридцать в нем уместится свободно, и сейчас он заполнен лишь на треть. Снаружи он выглядит как стеклянная полусфера, одна из десятков, лепящихся к фасаду громадного небоскреба, словно высеченного изо льда.
Кроме меня, в кабине еще девять человек. Первым взгляд клеится к двухметровому громиле, хмурому, прикусившему губу. В его лице что-то нарушено, оно очень негармонично, но в чем именно дело, сразу не понять. Рядом с ним — делового вида толстячок, сосредоточенно чешущий свой затылок. Кажется, бизнесмен направляется в свою контору. Губастый улыбчивый тип с короткой стрижкой, рослый и какой-то нелепый, о чем-то шушукается с веснушчатым лохматым парнем в цветастой рубашке. Громила смотрит на них неодобрительно.
Худой мужичонка с усталым нервным лицом дремлет стоя, хотя хихикают прямо у него над ухом. Над ним нависает длинный человек с хрящеватым носом, печальными темными глазами и внушительными ушами, упрятанными под копну тщательно вымытых волос. Несмотря на странную внешность, от него исходит ощущение совершенной безмятежности: может, в его сени мужичонка и прикорнул.
Но мое внимание приковано к другому пассажиру — обритому наголо щуплому юнцу. Почти подросток, до того молодо выглядит, и, по виду, явная шпана. В приличном боксе на него бы подозрительно пялились; а тут за ними наблюдает только один пассажир — коренастый, обритый наголо и усатый. Если бы мне пришлось угадывать, кто он, я бы сказал — полицейский.
Последний — настоящий романтический герой: пропорционален, как Витрувианский человек, благороден лицом, как Давид; курчав, да еще и мечтателен. Вот кто, думаю, произвел бы фурор в купальнях.
Я прижимаюсь лбом к стеклу.
Погружаюсь в этой стеклянной банке все ниже; теперь мы где-то посередине. Теперь вверх башни уходят в бесконечную перспективу, смыкаясь вершинами, настолько же, насколько и вниз, срастаясь корнями. Горят повсюду мириады огней. И не видно городу этому ни конца, ни края.
Европа. Грандиозный гигаполис, подмявший под себя половину континента, попирающий землю и подпирающий небеса.
Когда-то люди попытались соорудить башню, которая достала бы до облаков; за гордыню бог покарал их разобщенностью и раздором, заставив говорить на разных наречиях и лишив взаимопонимания. Строение, которое они возводили, разрушилось. Бог самодовольно ухмыльнулся и закурил.
Люди отступились от неба — но ненадолго, всего на несколько тысячелетий. Бог и глазом моргнуть не успел, как его сначала уплотнили, а потом выселили.
Теперь вся Европа застроена Вавилонскими башнями; и нынче дело не в гордыне. Вкус к соревнованиям с богом давно утрачен. Это просто неспортивно: он не из нашего эшелона. Дело в тесноте.
Время, когда бог был единственным, прошло, теперь он — один из ста двадцати миллиардов, и это если он прописан в Европе. Есть же еще Америка, Индокитай, Япония с колониями, Африка, наконец — всего под триллион населения. Людям просто негде жить, негде размещать заводы и агрофабрики, офисы и арены, купальни и имитаторы природных зон. Нас стало слишком много, и мы попросили его подвинуться, только и всего. Нам небо нужней.
Цитадель Европа похожа на фантастический ливневый лес: башни словно стволы деревьев, каждое больше километра в обхвате и по несколько километров в высоту, транспортные рукава и переходы перекинуты между ними как лианы. Башни вздымаются над долиной Рейна и над долинами Луары, они выросли в Каталонии и в Силезии. То, что прежде было Барселоной, Марселем, Гамбургом, Краковом, Миланом — сейчас единая страна, единый город, закрытый мир. Сбылась вековая мечта, и Европа по-настоящему едина — ее всю можно проскочить через транспортные рукава и туннели, подвешенные на стоэтажной высоте — не достающие башням и до середины.
Непосвященному этот великий лес может показаться суровым и сумеречным: редкие здания имеют окна, трубы коммуникаций вынесены наружу и оплетают стволы башен снаружи как вьюнки-паразиты. Сокровенное — внутри. Вырастая на месте старой Европы, современная почти не разрушала ее: средневековые соборы, старинные дворцы, парижские улочки с их арт-нуво, стеклянный купол берлинского Бундестага — все оказалось забрано внутрь возводимых гигантов, стало частью интерьеров нижних ярусов; кое-что пришлось снести — чтобы установить опоры и поставить стены, но без перепланировки нового мира не построить.
А теперь над крышами домов старого города Праги, и над башенками Рыбацкого замка в Будапеште, и над мадридским королевским дворцом есть еще сотни крыш — одна над другой; и сады, и трущобы, и купальни, и громадные предприятия, и спальные боксы, и штаб-квартиры корпораций, и стадионы, и бойни, и виллы. Эйфелева башня, Тауэр, Нотр-Дам — все они пылятся под искусственными облаками и поддельным солнцем в подвалах новых башен, новых дворцов и новых соборов, сооружений по-настоящему великих и по-настоящему вечных.
Потому что только такие дома заслуживает новый человек. Человек, сумевший взломать собственное тело, исправить смертный приговор, прописанный ему бородатым экспериментатором в самом ДНК, перепрограммировать себя, превратить из чужой скоропортящейся игрушки в существо, неподверженное тлену, вечное — действительно самостоятельное и независимое, совершенное.
Человек, переставший быть созданием и ставший создателем.
Миллионы лет он мечтал лишь об этом — победить смерть, избавиться от ее гнета, перестать жить в вечном страхе, стать свободным! Только разогнувшись, только взяв в руки палку, он уже думал, как бы обмануть смерть. И всю свою историю, и еще до того, еще когда история была топким бессознательным безвременьем, он стремился только к этому. Жрал сердца и печень своих врагов, искал мифические источники у черта на куличках, жрал толченые носорожьи рога и толченые драгоценные камни, совокуплялся с юными девственницами, платил состояния шарлатанам-алхимикам, жрал только углеводы или только протеины в соответствии с рекомендациями геронтологов, занимался бегом, платил состояния шарлатанам-пластическим хирургам… Все лишь чтобы, если не оставаться вечно молодым — хотя бы казаться таким.
Мы больше не homo sapiens. Мы — homo ultimus.
Не желающие быть чьей-то поделкой. Не собирающиеся дожидаться снисхождения от черепахи-эволюции. Наконец взявшие собственную судьбу в свои руки.
Венец собственного творения.
А за моим стеклом простирается наш чертог — новая Европа.
Земля счастья и справедливости, где каждый рождается бессмертным, где право на бессмертие столь же сакрально, как право на жизнь. Земля людей, которые впервые за человеческую историю свободны от страха, которые не обязаны жить каждый день, как последний. Людей, которые могут, не стесненные гнилостными позывами своего тела-мешка, мыслить не категориями дней и лет, а масштабами, достойными Вселенной. Которые могут бесконечно совершенствоваться в науках и умениях, совершенствовать мир и себя.
Нет больше смысла соревноваться с богом, потому что мы давно сравнялись с ним. Раньше вечен был только он, теперь — любой. Мы и на небеса-то забрались, потому что каждый из нас теперь бог, потому что теперь-то они наши по праву. Его даже не свергали — он сам бежал, сбрив бороду и переодевшись в женское, и сейчас бродит где-то среди нас, неотличимый, живет в кубе два на два на два, один из ста двадцати миллиардов.
За европейский паспорт любой бы душу продал, только души теперь раритет. Но старикан, думаю, тут, в Европе. С его-то накоплениями…
Лифт сполз ярусов на двадцать вниз; сквозь туман и дым видно основания башен. Уже недолго осталось.
— Я тебе вот что скажу. Ты живешь в самое лучшее из всех времен, которые только были на этой планете. Не было более счастливого времени, понятно? — произносит усатый, и я возвращаюсь в кабину.
Говорит он вроде как со шпаной, с этим бритым подростком, но остальные пассажиры лифта тоже оборачиваются к нему, внимают; лица у всех серьезные.
— Но только счастье это не у всех, вот что. Это тут, в Европе, у нас так. А в России сам в новостях видел, что творится. Или с Индией как получилось. Недаром все границы вечно беженцами обсижены, как вошью. Все к нам потому лезут, что у нас здесь халява, ясно? Другого нету. Не в Америку же, в самом деле, им ехать, так? Бабла на жизнь не хватит.
Пацан хмурится — но кивает, соглашаясь.
— Вот ты тут родился. Тебе бессмертие по праву положено. Повезло. А что, думаешь, так все и будет? Собираешься бесконечно жить, а? Ничего тебе не гарантировано, вот что я скажу. Ноль. Потому что на халяву падких много. А все хорошее заканчивается. Воды в обрез, так? Мочу свою фильтруем и пьем! Места в обрез! Хорошо, когда у человека восемь кубометров есть! Жратвы… Ты слушаешь меня?
— Да слушаю, слушаю… — бурчит обритая шпана.
— Жратвы! Энергии! Все на пределе! На пределе! Тут каждый должен сознательность проявлять! Сто двадцать миллиардов шестьсот два миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча. Столько Европа тянет. Больше — не сможет. Мы в опасности. Демагоги брешут: тысяча туда, тысяча сюда… А я тебе скажу: стакан полон, вот что. Еще капля — и через край хлынет. И капут всему.
Я ловлю себя на том, что согласно киваю.
— И не будет тебе твоего бессмертия. Ясно? А все из-за этих. Если есть у Европы враги — это они. Мрази. Хочешь как зверь жить — делай выбор, все по закону, так? Нет же. Они выкрутиться хотят. Тебя обмануть. Чтобы их отродье выдышало наш воздух, нашу воду всю высосало! И что, спустить им все с рук?!
— Хер им, тварям, — смурно бухтит подросток.
— Ты просто помни об этом, ясно? Они преступники. Паразиты. Они должны заплатить! Мы все правильно делаем. Мир, друг, просто устроен: черное или белое. Мы или они. Ясно?!
— Да ясно, ясно…
— Вот так! Ноль этим гнидам пощады!
Усатый строго оглядывает пацаненка, потом скидывает с плеча ранец, достает из него белую маску. Оглядывает ее, словно видит впервые и не понимает, откуда она взялась у него в рюкзаке. Потом натягивает ее на себя.
На вид композитный материал, из которого она сделана, неотличим от мрамора.
Лицо на маске раньше принадлежало древнему изваянию Аполлона. Я знаю — видел саму статую в музее. Глаза у нее пустые, без зрачков — закатились или бельмами затянуло. Лицо холодное, бесстрастное, парализованное. Слишком правильные черты. Лепили его или с самого бога, или с очень красивого мертвеца. У людей — живых — таких лиц не бывает.
Пацаненок лезет в свой мешок, вытаскивает из них точно такую же маску, надевает ее и замирает, похожий на скрученную пружину, готовую развернуться в любой момент.
Потом и пухлый бизнесмен выуживает откуда-то свою маску — копию тех, что нашлись у парнишки и у усатого. Суетливо выхватывает откуда-то аполлоново лицо худой мужичок, неспешно пристегивает к себе мраморную личину ушастый. За ним следуют громила с нарушенным лицом, Витрувианский человек; лохматый парень скидывает свою разноцветную гавайку и облачается в черный комбинезон — как у остальных, закрывает лицо маской бога красоты и юности, за ним и губастый балагур. Теперь обезличены и обмундированы в черные одежды все девятеро.
— Уснул? — поворачивается ко мне тот, что был усатым.
Я достаю свою маску — последним.
Приехали.
Стена, из которой мы выходим, превращена в панно — на всю ее огроменную площадь нанесено граффити. Наивное, яркое, слащавое: улыбающиеся смуглые богатыри с квадратным подбородками и мыльными пузырями на головах, арийские самки в серебряных комбинезонах, смеющиеся дети с умными взрослыми глазами, легкие прозрачные небоскребы, а над ними — перетекающее в синий космос безоблачное небо, в которое стартуют десятки белых кораблей-«Альбатросов», изготавливаясь, видимо, прыгнуть через межзвездное пространство к другим мирам, покорить их и навести туда мосты с битком набитой счастливыми человечками Земли.
Между небом и космосом — многометровыми буквами название этой румяной утопии: «БУДУЩЕЕ».
Черт знает, когда это все намалевали. Давно, наверное — раз еще рисовали, а не пустили на стену проекцию или не поставили экран. Раз тратили еще краску на изображения детей. Наверное, очень давно, раз еще верили в освоение космоса. Зато точно ясно, что с тех самых пор, как эту идиллию тут изобразили, не чистили ее ни разу — так что теперь граффити покрыто коричневатым слоем копоти и жира, словно картины средневековых мастеров. Небо посмурнело. Люди, заламинированные в жир, выглядят нездорово: скалятся желтыми зубами, таращат желтые белки глаз, и радость их кажется натужной, словно в концлагерь приехал фотограф из газеты и велел всем улыбаться.
Занятно. Модели, которые позировали художнику столетия назад, наверное, ничуть не изменились с тех пор. А их изображения потускнели, закоптились, растрескались. Портретам время не идет на пользу, это еще вечный юноша Уайльд подметил. А нам на время плевать. Мы временем не болеем.
Выход из лифтовой кабины устроен там, где на стене нарисован последний не взмывший еще к далеким звездам космический корабль, и обыгран в меру фантазии автора: двери лифта — двери межгалактического челнока.
Так получается, что вылезаем мы в устаревшем БУДУЩЕМ из корабля, который так никуда и не полетел. И правильно, кстати, сделал. Не хера там ловить.
А перед нами — настоящее.
Бокс, в который мы попали, метров пятьдесят в высоту и чуть ли не по полкилометра в длину и ширину; точней не сказать, потому что насквозь его проглядеть трудно. От пола до потолка громоздятся скрученные из композитных каркасов конструкции, похожие на склад какого-то мегамаркета, на его бесконечные стеллажи и антресоли. И этот скелет, состоящий из столбов и полок, превратился в целый коралловый риф, населенный самой причудливой живностью.
Каждая полка — полтора метра, не разогнуться, одни огорожены хлипкими заборчиками, другие обустроены тонкими разноцветными стенками из всяческого хлама, третьи — голые. И по этим полкам, которых тут миллион, разложен миллион человеческих жизней. Каждая клетушка — чья-то халупа, лавка, ночлежка или харчевня. В воздухе висит пряный туман: пар человеческого дыхания пополам с дымом готовящейся еды, пот пополам со специями, запах мочи пополам с экзотическими ароматизаторами.
Каркасы стоят плотно, от одного можно с разбегу перепрыгнуть к другому. Прыгать нестрашно даже на высоте каких-нибудь тридцатых карликовых этажей: между каркасами повсюду проброшены висячие мостики, налажены канатные дорожки, протянуты какие-то веревки с сушащимся бельем — даже если оступиться, в полете непременно за что-нибудь зацепишься.
Облепленные мириадами жилых ракушек, каркасы кишат людьми. Пестрая толпа до отказа набилась на первый уровень, «наземный» — хотя от настоящей земли до него метров триста, и заполонила все остальные. Кипят, не выкипая, человеческими лицами галереи, кто-то носится по держащимся на честном слове мостикам — кажется, что люди барахтаются прямо в воздухе. По забранным в решетчатые шахты лестницам прокачивают от пола к далекому потолку вязкую людскую массу.
Стоит невыносимый гвалт. Миллион человек говорят разом — каждый на своем языке: напевают вслух приклеившуюся к языку попсу, стонут, кричат, хохочут, шепчут, клянутся, плачут.
Сбегают с этажа на этаж десять тысяч лестниц и лесенок, снуют вверх-вниз шаткие платформочки сомнительных подъемников, доставляющие рисковых пассажиров и их странные грузы именно в ту точку этой адовой кутерьмы, которая им непременно сдалась.
И притом вся конструкция какая-то… не прозрачная, а дырявая — так что виднеется сквозь нее, сквозь решетки, стенки, переходы, балкончики, развешенное для сушки белье — нарисованный во весь потолок космос со звездами и аляповатыми сатурнами-плутонами-юпитерами, потому что потолок — продолжение того громадного граффити, из которого мы вышли, и гордые астронавты с пузырями на головах своими мудрыми и добрыми очами (разве что желтоватыми) с настенного панно созерцают творящуюся перед ними многоэтажную вакханалию — явно в ступоре и явно подумывая, не лучше ли им все же будет свалить в космос.
Привет, люди БУДУЩЕГО. Добро пожаловать в фавелы.
Здесь я чувствую себя так, будто меня запихнули в микроволновку.
Кажется, что через это столпотворение мне не пробиться даже в одиночку, даже моим фирменным способом. А уж вдесятером, не растерявшись по дороге…
— Клин, — говорит мне из-под аполлоновой маски наш звеньевой, Эл — тот усатый, что наставлял пацана.
Я даже не слышу его голоса; читаю по губам.
— Клин! — ору я.
Ассиметричный гигант — Даниэль — становится первым. За ним — Эл и пухлый, похожий на бизнесмена Антон, в третьем ряду Бенедикт-излучатель спокойствия, и серьезный шпаненок, имени которого я еще не успел запомнить — его только прислали вместо Базиля, и щуплый нервный Алекс. В замыкающей линии — губастый Бернар, лохматый Виктор, Йозеф-витрувианец и я.
— Маршем, — наверное произносит звеньевой.
— Маршем! — повторяю я, надрывая глотку.
Мне хочется распихивать толпу локтями, гнать этих бездельников прочь, давить их, но сдавливаю я самого себя — в стальном зажиме, смотрю на Эла, на Даниэля, заражаю себя их хладнокровием. Я — часть звена. Вокруг меня — мои боевые товарищи. Мы с ними — один механизм, один организм. Мне покойно. Я больше никуда не рвусь. Я марширую.
Наше построение танком ползет вперед.
Сначала нам трудно: в этом ведьмином вареве нас замечают не сразу. Но сначала одни чужие глаза спотыкаются о черные вырезы на наших масках, потом еще кто-то прикипает взглядом к мраморным гладким лбам и мраморным застывшим кудрям, к навсегда склеенным губам и к идеально прямым носам, вырубленным из камня.
Разлетается по толпе шепот: «Бессмертные… Бессмертные…».
И она останавливается.
Когда вода остыла до нуля градусов, она может еще и не замерзнуть. Но если в нее положить кусочек льда, процесс начинается тут же, и вокруг, сковывая поверхность, начинает распространяться ледяной панцирь.
Так и вокруг нас расползается холод, примораживая бомжей, торгашей, работяг, пиратов, дилеров, воров; всех этих неудачников. Они сперва перестают мельтешить, застывают, а потом поджимаются, пятятся от нас во все стороны, спрессовываются как-то, хотя казалось, что плотней уже стоять нельзя.
А мы движемся все быстрей, рассекая толпу надвое — за нами на ней остается след, порез, который еще долго не срастается, словно люди боятся ступать там, где только что ступали мы.
«Бессмертные…» — шуршит у нас за спиной.
В их шепоте — подобострастие, но и ненависть, и презрение, и страх.
Пускай шушукаются.
Замирают разговоры в крохотных грязных харчевнях на первых этажах, где везучие посетители сидят друг у друга на головах, а остальные гроздьями свисают с балконов, чудом удерживаясь на весу и прихлебывая безымянную органику из обшарпанных лотков. Обрастают выпученными рачьими глазами раковины хибар и хибарок: все их обитатели вылезают, высыпают на галерейки и мосточки, чтобы увидеть нас воочию. Жалкие человеко-рачки провожают нас испуганными взглядами, не могут оторваться: каждый должен знать, куда мы идем.
Каждый хочет знать, за кем мы.
— Налево, — командует Эл, глядя на свой комм.
— Налево!
Поворачиваем к лесенке, которая втиснулась между кабинетом вертикального массажа и салоном виртуального секса. На нашем пути встает какой-то верзила со сплюснутым носом, но Даниэль отшвыривает его в сторону, тот падает на пол и больше не поднимается.
— Нам на пятнадцатый, — говорит Эл.
Шепот взлетает на пятнадцатый этаж куда быстрей, чем мы вскарабкиваемся по скрипучей лестнице, которая раскачивается так, словно ничто ее не держит на этом свете. И там, наверху, уже занимается пожар паники. Ничего, пусть.
Забравшись, бежим цепью по узеньким подвесным балконам мимо мириад кабин, хижин, клетушек. Люди прыскают в стороны. Отпихиваем прочь зазевавшихся и остолбеневших от ужаса.
— Быстрей! — кричит Эл. — Быстрей!
Навстречу нам выскакивает растрепанная девушка. Бросается на нас, как-то глупо выставляя руки вперед. Ладони у нее перемазаны в чем-то желтом.
— Уходите! Уходите! Не надо! Не пущу!
— Отвали, дура! Что ты делаешь?! — орет на нее какой-то парень, дергает ее за платье, пытаясь от нас оттащить. — Что ты делаешь?! Ты только…
— Дорогу! — ревет Даниэль.
— Она нам нужна, — решает звеньевой. — Придержите ее!
Антон выхватывает шокер и тычет его девушке в живот; та падает, как подкошенная, и больше ничего не может сказать. Парень пялится на нее недоверчиво, потом вдруг толкает Антона обеими руками в плечи — так, что тот проламывает дистрофичную балконную оградку и летит в пропасть.
— Тут… Это где-то тут! — гаркает звеньевой.
Выбросив Антона, парень впадает в прострацию — тут же получает шокером в ухо и валится мешком. Я выглядываю с балкона: Антон приземлился парой этажей ниже на какой-то перекладине. Показывает мне большой палец.
Мы останавливаемся у микроскопической лапшичной: продавец помещается в своем заведении только сидя, где-то за ним ютится повар, вдоль прилавка, сделанного для карликов — ряд табуреток с подпиленными ножками, в конце занавеска — сортир. Вся столовка — размером с киоск. Соседи все на виду. Прятаться негде. На стене у кассы висит голограмма: мужик в розовой резине, обтягивающей его рельефную мускулатуру. Глаза подведены, во рту — лиловая сигара. Сигара дымится, и в зависимости от точки меняет угол наклона, недвусмысленно вздымаясь. Меня сейчас стошнит.
У приземистого повара на коричневой лысине белым вытатуировано «Возьми меня». Продавец тоже нарядный: весь в помаде, язык проколот люминесцирующей штангой. Смотрит на Даниэля, медленно обводит порочно подмигивающей сережкой накрашенные губы. Кажется, мы не по адресу.
— Можешь даже не снимать маску, — говорит он. — Люблю анонимность. И сапоги оставь… Они такие брутальные.
— Тут? — оборачивается к Элу Даниэль. — Странное место для сквота.
— Был сигнал, — хмурится звеньевой, уставившись в свой коммуникатор. — И эта баба…
И тут я вижу за приподнятой занавеской чьи-то круглые глаза, ловлю сдавленный писк, шепот… Отодвигаю Даниэля, который заслоняет весь проход, сгибаюсь в три погибели — лезу мимо заинтригованных педиков с их стынущей лапшой, добираюсь до сортира…
— Эй! — окрикивает меня продавец. — Эй-эй!
Отдергиваю тряпку. Никого.
В кабинке можно уместиться только на корточках. Стенка за стульчаком вся расписана предложениями быстрого секса, снабженными метрическими данными — наверняка, приукрашенными. Слева какой-то умелец выцарапал анатомически достоверный член, словно фамильный герб окружив его лентами с начертанной на них совершенно невообразимой похабщиной. Там, где начинается слово «причмокивая», я вижу крохотный дактилоскопический сенсор. Изобретательно.
Делаю шаг назад и впечатываю бутс в стенку. Она, как бумажная, прорывается — за ней люк со стремянкой, ведущей вниз.
— Сюда! — прыгаю первым.
И уже падая, слышу визг, и знаю: нашел. Сигнал был верный. Не успели сбежать, не успели. Меня заливает адреналином. Вот она, охота.
Теперь-то не спрячетесь, ублюдки.
Крошечная полутемная комнатка, на полу — какая-то пластичная мебель, ворох тряпок, скорченная фигура… Чувствую, как подступает тошнота. Прежде, чем я успеваю толком все разглядеть, комната вспыхивает, я лечу кубарем, в глазах — огненные кольца, дыхание перебито. Тут же откатываюсь и вслепую бросаюсь на него, пальцами нащупываю шею, потом глаза — вдавливаю внутрь. Вопль.
Успеваю нашарить свой шокер — перехватывая скользкую чужую кисть, которая тянется к нему же — выдергиваю — тычу шокером в мягкое.
Ззз… Подольше держу. Подольше. Полежишь, гад.
Отваливаю обмякшее тело от себя, пинаю его устало.
Да куда же все наши запропастились?
Разметываю мешки-кресла, вымещаю на них то, что не стал вымещать на теле.
Заставленный диваном в углу комнатушки — лаз.
— Вы где?!
Наверху — брань, возня. Похоже, нашим сейчас тоже жарко. Но мне обратного пути нет. Справятся сами. До меня доносится придушенный тонкий писк. Я чувствую, что еще вот-вот — и накрою гнездо.
В этом лазе может быть что угодно. Нарушители бывают вооружены всерьез. Но нельзя ждать. Тут каждая секунда на счету. Если они успеют эвакуировать сквот, весь рейд насмарку.
Приподнимаю с пола человека-куль, пропихиваю его в лаз впереди себя. Изнутри — вопль. Куль дергается — нехорошо так, конвульсивно. Затихает. Его втаскивают внутрь. Еще один вскрик — отчаянный.
— Максим!
Ага, поняли, что своего оприходовали.
Дышать все еще тяжело. Ребра колет. Проверяю шокер. Он тихо жужжит. Заряд на дозволенный максимум. Лаз тесный, как желудок питона. Надо проскочить через эту горловину! Проскочить, пока она не сжалась и не удавила меня…
Кувырок — вкатываюсь внутрь быстрей, чем они успевают понять, что я — просто человек.
Наугад раздаю тычки смазанным силуэтам, среди которых оказываюсь. Они падают, обретая четкие очертания. Тонкий захлебывающийся плач.
— Не надо!
— Стоять! Всем стоять, суки! — и наконец выплевываю наше, каленое. — Забудь о смерти!
И этими словами, словно настоящим огненным тавром, прижигаю, припечатываю, парализую их всех. Кто дрыгался — затихает. Кто ревел — скулит. Знают: теперь все.
Включаю свет. Ну?!
Комната, раскрашенная в кричащие цвета — одна стена ярко-желтая, другая ярко-синяя; все изрисованы какими-то каракулями, словно их чертил имбецил с нарушенной координацией. Башни, люди держатся за руки, облака и солнце.
Из мебели — матрасы. Небогато. И места так мало, что нечем дышать! Как их столько сюда набилось?
На полу валяются две бабы и парень. Парень ткнулся носом в мою бутсу. Голову одной из женщин нимбом окружает зеленая зловонная лужа. Святая мученица. Чувствую, как и у меня к горлу подступает едкий сок.
К стенам жмутся еще три девушки. У одной, голубоглазой и в коротком синем платье, на руках — мяучащий сверток. Вторая — раскосая крашеная блондинка — все еще зажимает рукой рот полуторагодовалой девочке с жиденькими черными волосенками под розовой шапочкой. Девочка что-то обиженно мычит из-под ладони и пытается выкрутиться, но не может — у матери руки деревянные, словно судорогой свело. От всего лица видны только глаза — такие же щелочки, как у матери. Последняя из задержанных, рыжая с тысячей маленьких косичек, прячет за собой белобрысого мальчишку лет трех. Мальчик наставил на меня придурковатого лысого пупса с оторванной ногой, держит его так, будто это оружие. Кукла, надо же… На блошином рынке они ее раскопали или у антикваров? Пупс пытается навести на меня жутковато-осмысленный взгляд своих композитных глаз и нудит:
— Давай играть в салки. Только мне нужна обратно моя нога! Иначе как я буду от тебя убегать? Верни мне мою ногу и давай играть! Будешь?
Остальные молчат. Тогда снова вступаю я.
— Проверка сигнала. Вы подозреваетесь в укрывательстве незаконнорожденных. Мы проведем тест ДНК. Если дети зарегистрированы, вам нечего бояться.
Говорю «мы», хотя я тут все еще один.
— Мама! Все в порядке, я его держу на мушке! — заявляет мальчишка, вылезая вперед.
Женщина начинает выть.
— Не надо… Не надо…
— Вам нечего бояться, — улыбаюсь я.
Я гляжу на них и знаю, что лгу. Они именно должны трястись от страха — потому что виновны. Тест только подтвердит то, что и так видно по их глазам.
Не боится из них всех только мальчик. Почему? Неужели его не пугали Бессмертными?
— Вы, — я киваю на встрепанную синеглазую девушку в синем платье с младенцем на руках. — Сюда.
— Будем играть в салки? Только верни мне мою ногу… Иначе как я буду бегать? — кося на меня, канючит кукла.
Я загораживаю единственный выход; теперь отсюда некуда бежать — ни им, ни мне; а ведь мне хочется выбраться из этого давящего ящика так же отчаянно!
Как загипнотизированная, девушка в синем платье послушно делает шаг вперед. В ее голубых глазах можно утопиться. Ребенок умолкает — может быть, засыпает.
— Руку.
Неловко удерживая сопящего младенца, она выпрастывает ладонь и протягивает мне ее — как-то стеснительно, будто надеясь на что-то. Я хватаю ее как в рукопожатии. Чуть заламываю запястье, обнажая пульс. Достаю сканер, прижимаю. Тихий мелодичный сигнал. Тон «Колокольчик». Сам выбирал его в каталоге звуков. Обычно очень разряжает обстановку.
— Регистрация беременности?
Девушка, словно спохватившись, пытается отдернуть руку. Будто я поймал какого-то зверька — теплого и юркого; он доверился мне по глупости, а я вцепился в него и сейчас скручу ему шею, он бьется, чувствуя, что пропал, но вырваться из моей хватки уже не может.
— Элизабет Дюри 183-А. Беременность не регистрировалась, — сверившись с базой, констатирует сканер.
— Ребенок ваш? — я смотрю на девушку, не выпуская ее руки.
— Нет… Да, мой… Он… Это она… Это девочка… — та путается, запинается.
— Дайте ее сюда.
— Что?
— Мне нужно ее запястье.
— Я не дам!
Я подтягиваю ее к себе, разворачиваю сверток. Внутри — похожий на голую сморщенную обезьянку красный человечек. Действительно, девочка. Вся обляпанная желтым. Месяц, не больше. Недолго же ей удалось от нас прятаться.
— Нет! Нет!
Платье Элизабет Дюри намокает — груди расползаются темными пятнами. Молоко пошло. Действительно, настоящее животное. Отпускаю ее. Берусь за обезьянью лапку и прижимаю к ней сканер.
Динь-дилинь! Колокольчик. Некоторые из наших присваивают завершению сканирования ДНК тон «Гильотина». Шутники.
— Проверить регистрацию ребенка.
— Я хочу играть в салки! — капризно требует безногая кукла.
— Ребенок не зарегистрирован, — сообщает сканер.
— Мама, давай уйдем отсюда? Пойдем гулять!
— Тише… Тише, сынок…
— Установить родство с предыдущим образцом.
— Прямая родственная связь родитель-ребенок.
— Он мне не нравится!
— Спасибо за сотрудничество, — киваю я девушке в синем платье. — Теперь вы, — оборачиваюсь к рыжей.
Она пятится от меня, мотая головой и подвывая. Тогда я хватаю за руку ее пацаненка.
— Отпусти меня! Отпусти быстро!
— Давай играть в салки? — встревает пупс.
И тут эта маленькая дрянь вдруг изворачивается и вцепляется мне зубами в палец!
— Отстань от нас! — кричит мне мальчишка. — Уходи!
До крови, надо же. Отнимаю у него куклу, с размаху швыряю ее на пол. Голова отлетает.
— Мне больно. Не надо так со мной, — расстроенно говорит голова голосом очень старого человека; что-то с динамиком.
— Нет! Зачем ты?! — кричит мальчишка, и тянется грязными ногтями к моему лицу, надеясь расцарапать его.
Я поднимаю его за шиворот и встряхиваю в воздухе.
— Не смей! Не смей! — вопит рыжая. — Не смей его трогать, мразь!
Удерживая извивающегося мальчишку в воздухе, я отпихиваю ее ладонью.
— Наз-зад!
Колокольчик.
— Проверить регистрацию ребенка!
— Ребенок не зарегистрирован.
— Отдай! Отдай моего сына, паскуда!
— Я предупреждаю… Буду вынужден… Стоять!
— Отдай мне моего сына, ублюдок! Тварь! Безродная тварь!
— Что ты сказала?!
— Безродная мразь!
— Повтори!
— Безродная…
Зззззз. Зз.
Кажется, мышцы и кости в ней вдруг заменили на воду, и она бурдюком обваливается на пол.
Динь-дилинь!
— Извините… А мы… Мы можем идти? — голубоглазая девушка в синем платье как будто просыпается.
— Нет. Установить родство с предыдущим образцом.
— Но вы же сказали…
— Я сказал — нет! Установить! Родство!
— Что ты сделал с моей мамой?!
— Не подходи ко мне, маленький ублюдок!
— Мама! Мамочка!
— Установлена прямая связь ребенок-родитель.
— Мне больно. Я просто хотел играть в салки.
— Но почему? Я не понимаю, почему? — голубоглазая в платье.
— Вы должны дождаться прибытия командира нашего звена.
— Зачем? Почему? — она совсем растеряна. Трогает свою грудь, разглядывает ладонь. — Извините… У меня молоко, кажется… Так неловко. Мне бы переодеться… Я вся…
— Вы нарушили Закон о Выборе. Согласно второму положению Закона, вы являетесь безответственным родителем, ваш ребенок считается незаконнорожденным.
— Но ведь она совсем маленькая… Я хотела… Я просто не успела!
— Не двигайтесь. Мы должны дождаться прибытия командира моего звена. Только он уполномочен сделать вам инъекцию согласно законодательству.
— Инъекцию? Укол? Вы хотите сделать мне укол? Заразить меня старостью?!
— Ваша вина установлена. Прекрати реветь! Ты мужик или кто?! Ваша вина установлена!
— Но я… Но… Но ведь…
И тут крашеная азиатка, все это время стоявшая смирно, будто из нее батареи вытащили, проделывает финт, которого я от нее не ждал: с короткого разбега вламывается плечом в одну из стен — и выносит ее напрочь, и вылетает вместе с ней в дымную бездну. Ее дочь ничего не понимает — как и я. Ковыляет на своих ножонках к отверзшейся пропасти, бормочет:
— Мама? Мама?
Я широко улыбаюсь.
Девочка опускается на четвереньки, потом на пузо, норовя слезть в никуда спиной вперед, как дети слезают с дивана. Еле успеваю подхватить ее. Она плачет.
— Отпустите нас…
— Мне больно. Я просто хотел…
— Заткнись!
Прижимая выкручивающуюся девчонку к себе, пинаю оторванную кукольную башку как мяч — и она исчезает из кадра. Пацан смотрит на меня так, будто я — сам Сатана. Ничего, это он еще не знает, что его ждет дальше.
— Он ведь еще не пришел, ваш начальник? Отпустите нас! Пожалуйста, я вас очень прошу! Мы не скажем, мы никому не скажем, честное слово.
— Вы! Нарушили! Закон! О Выборе! Вы!
— Мама? — спрашивает у меня мелкая; розовая шапчонка наползла ей на глаза.
— Я умоляю вас… Ну что я могу…
— Завели! Нелегального! Ребенка! А! Это!
— Все, что угодно… Хотите, я…
— Значит! Что! Вам! Будет! Сделана! Расчетная! Инъекция!
— Смотрите…
— А! Ваш! Ребенок! Будет! Изъят!
— Но я ведь просто не успела! Я хотела, но не успела!
— Меня это не касается!
— Умоляю! Ради нее… Ради девочки… Хотя бы ради нее! Посмотрите на нее!
— Слушай, ты! Мне плевать на тебя и на твою мартышку, ясно?! Ты нарушила закон! Больше я ничего не знаю и знать не хочу! Не могла перетерпеть — жрала бы пилюли! Чего тебе не хватало?! Чего?! Зачем тебе она?! Молодая! Навсегда! Здоровая! Навсегда! Работай! Выбирайся из этого дерьма! Живи нормальной жизнью! Весь мир перед тобой! Все мужики твои! Зачем тебе эта обезьяна?!
— Не говорите так, не говорите так!
— А не хочешь жить как человек — живи как скотина! А скотина стареет! Скотина дохнет!
— Прошу вас!
— Мам-мма?!
— Нечего просить! Нечего! Из-за таких, как ты, Европе конец! Ты не понимаешь?! Ты не забыла зарегистрироваться. Ты не собиралась это делать. Думала, мы тебя не найдем. Думала, забьешься в этот клоповник и сможешь тут всю жизнь сидеть?! Ничего, нашли! Рано или поздно мы всех найдем. Всех вас. Всех!
Она уже ничего не говорит, только рыдает беззвучно.
Я гляжу на нее, и чувствую, как судорога медленно отпускает мое лицо.
— Что будет с моей девочкой? С моим ребеночком… — она спрашивает не у меня, а сама у себя.
— О! Улов!
Голос Эла. Оборачиваюсь.
В лазе виднеется лицо Аполлона. Отряхиваясь, звеньевой выбирается в комнату, за ним ползет еще кто-то, кажется, Бернар.
— А у нас такая заварушка случилась! Еле выбрались. Что тут у тебя?
— Вот… Трое детей, двое точно нелегалы… Взрослые. Двое — нарушители… Этих пока не успел… Сопротивлялись. Надо еще проверить. Да, еще одна спрыгнула.
Эл осторожно подходит к выбитой стене, заглядывает в пропасть.
— Трупов не видно. Жива — значит, найдем. Вызову-ка я сюда спецкоманду, пускай заберут сопляков. А взрослых пробьем еще разок по базе, ультразвуком пузо пройдем для верности — потом каждому по укольчику, и привет. Подержишь их, чтобы не рыпались? Бернар, пригляди за мелюзгой!
Я киваю. Хочу одного — наконец убраться из этой халупы, чтобы перестать упираться головой в потолок, а плечами — в стены. Но я киваю.
Передаю девчонку («Мама? Мама?») Бернару, он хватает за шиворот окрысившегося пацана, зажимает ладонью рот узкоглазой. Он прав, наверное — какой смысл с ними церемониться?
Эл задирает ей платье, приставляет ультразвук: на картинке — какая-то амеба. Все, теперь точно.
Мои руки мелко дрожат, и, чтобы подавить эту дрожь, я вцепляюсь в кисти девушки в платье изо всех сил, до синяков. Но она, кажется, даже не чувствует этого.
— Вы ведь начальник, да? — синющие глаза просительно заглядывают Элу в его стекляшки, пока тот приставляет ей к запястью инъектор и спускает курок. — Скажите, вы же ничего не сделаете с моей девочкой? Скажите…
Наш звеньевой только хмыкает.

За окном тосканские холмы, наверняка давным-давно снесенные и застроенные, в руке у меня початая бутылка, в ушах — ее крик. «Куда вы ее уносите?! Куда вы ее уносите?! Куда вы ее уносите?!» Черт бы побрал эту бабу. Наверное, раз триста подряд повторила. Только зря она затеяла всю эту канитель: правды ей никто не скажет.
Как-то нервно сегодня получилось.
Я делаю большой глоток и закрываю глаза. Хочу увидеть ту сучку в полосатой широкой шляпе, представить себе, как сдергиваю, разрываю на ней кофейный прямоугольник, как она прикрывается крест-накрест руками… А вижу темные круги на коротком синем платье, просачивающиеся сквозь ткань белые капли.
Забыть. Уснуть.
Лезу за спасительными шариками. Никого не хочу больше видеть. Отыскиваю снотворное, открываю пачку… Пусто.
Так. Так-так. Так-так-так!
Как же это со мной получилось?
Это все из-за вчерашнего спора с проекцией продавщицы у киоска… По душам поболтал о жизни с интерфейсом торгового автомата, кретин. Исповедался голограмме — и хорошо еще, что не трахнул ее.
Ладно. Ладно! Надо просто сбегать туда и купить новую пачку.
Я принял решение — но никуда не иду. Заливаю в себя еще текилы и остаюсь на месте, вперившись в зеленые холмы и клубы облаков. Ноги мягкие, как воздухом накачаны, голова плывет.
Даже если вместо вчерашней стриженой кобылки я потребую у трейдомата ту кормастую курчавую итальянку, ничего не поменяется: они просто разные оболочки одной и той же программы. Итальянка точно так же будет впаривать мне таблетки счастья: «Может быть, сегодня?» — хотя точно также будет знать, что прихожу я туда совсем за другим: «Мы всегда держим для вас бутылочку про запас».
Не пойду никуда. Лучше просто еще выпью. Дерну спуск. Если глотнуть побольше, спирт смоет меня из душной комнатенки, в которой я застрял, в блаженную пустоту.
Таблы — это тренд. Выбирай любые на вкус. Пилюли счастья, безмятежности, смысла… Наша земля держится на трех слонах, те — на панцире огромной черепахи, черепаха — на спине невообразимых размеров кита, и все они — на таблетках.
Но мне ничего, кроме снотворного, не надо. Все остальные таблы, допустим, и вправляют мозги, но делают это своеобразно. Такое ощущение, что к тебе в голову то ли подселяют постороннего, то ли пускают туда кого-то вроде бы своего, кто всегда в тебе сидел, но был от греха подальше заперт в подвале, и поэтому его было не видно и не слышно. Другим, может, и нормально, а меня раздражает: мне в моей черепушке и одному тесно, мне сокамерники не нужны.
Я пробовал завязать с сонными таблетками.
Надеялся, что однажды он меня отпустит, что я перестану возвращаться туда каждой ночью, в которую я не глушу себя снотворным. Должен ведь он когда-то забыться, поблекнуть, сгинуть? Не может же он сидеть во мне — а я в нем — всю вечность?
До дна! Досуха!
Текила закручивает мир вокруг меня, поднимает смерч, который затягивает меня в свою воронку, отрывает от земли, тащит в воздух легко, как будто я не девяностокилограммовый жлоб, а маленькая Элли, а я отчаянно цепляюсь взглядом за фальш-идиллию за фальш-окном, и умоляю ураган, чтобы он зашвырнул меня вместе с моим гребаным домиком в волшебную несуществующую страну Тоскану.
Но с ураганом не договориться.
Закрываю глаза.
— Я сбегу отсюда, — слышу я шепот в темноте.
— Замолчи и спи. Отсюда нельзя сбежать, — возражает другой, тоже шепотом.
— А я сбегу.
— Не говори так. Ты же знаешь, если они нас услышат…
— Пусть слушают. Мне плевать.
— Ты что?! Забыл, что они сделали с Девятьсот Шестым?! Его в склеп забрали!
Склеп. От этого пыльного слова, уже столетия назад устаревшего, неуместного в сияющем композитном мире, веет чем-то настолько жутким, что у меня потеют ладони. Я больше никогда не слышал это слово — с тех самых пор.
— Ну и что? — в первом голосе заметно убавилось уверенности.
— Его же до сих пор не выпустили оттуда… А сколько времени прошло!
Склеп расположен отдельно от вереницы комнат для собеседований, а где именно — не знает никто. Дверь в склеп не отличить от всех остальных дверей, на ней нет никаких обозначений. Если вдуматься, это логично: врата в ад тоже должны были выглядеть, как вход в подсобку. А склеп и есть филиал преисподней.
Стены комнат для собеседований сделаны из водоотталкивающего материала, а полы оборудованы стоками в пол. О том, что в них творится, воспитанникам друг другу болтать запрещено, но они все равно шепчутся: когда понимаешь, для чего нужны эти стоки, молчать трудно. Однако, что бы с тобой ни делали там, ты ни на секунду не забываешь: тех, кого им не удается сломать в комнатах для собеседования, ведут в склеп — и боль бледнеет в тени страха.
Побывавшие в склепе о нем никогда не рассказывают; якобы, ничего не могут вспомнить — даже то, где он находится. Но возвращаются оттуда совсем не те, кого туда забирали — а некоторые не возвращаются вовсе. Куда делся отправленный в склеп, не решается спросить никто — любопытных сразу уводят в комнаты для собеседований.
— Девятьсот Шестой не собирался никуда бежать! — вклинивается третий голос. — Его за другое так! Он про родителей говорил. Я сам слышал.
Молчание.
— И что рассказывал? — наконец пищит кто-то.
— Заткнись, Двести Двадцать! Какая разница, что он там нес!
— Не заткнусь. Не заткнусь.
— Ты нас всех подставляешь, гнида! — кричат ему шепотом.
— Тебе что, не хочется знать, кем они были?
— Вообще никак! — снова первый. — Я просто хочу сбежать отсюда, и все. А вы все оставайтесь тут тухнуть! И всю жизнь ссытесь от страха себе в койку!
Я узнаю этот голос — решительный, высокий, детский.
Это мой голос.
Снимаю с глаз повязку и нахожу себя в маленькой палате. Спальные нары в четыре яруса вдоль белых стен; по нарам распиханы ровно девяносто восемь детских тел. Мальчики. Все тут или спят, или притворяются. Повязка на глазах у каждого. Все помещение затоплено слепяще ярким светом. Невозможно понять, откуда он идет, и кажется, что сияет сам воздух. Сквозь закрытые веки он проникает с легкостью, разве что окрашиваясь алым от кровеносных сосудов. Надо быть чертовски измотанным, чтобы уснуть в этом коктейле из света и крови. Освещение не гаснет ни на секунду: все всегда должны быть на виду, и нет ни одеял, ни подушек, чтобы спрятаться или хотя бы прикрыться.
— Давайте спать, а? — просит кто-то. — И так до побудки уже всего ничего осталось!
Я оборачиваюсь на Тридцать Восьмого, словно сошедшего с экрана мальчика-загляденье — он тоже стащил с глаз повязку и надул свои губки.
— Вот-вот. Заткнись уже, Семьсот Семнадцать! А если они и правда все слышат? — поддакивает ушастый и прыщавый Пятьсот Восемьдесят Четвертый, не снимая на всякий случай повязки.
— Сам заткнись! Ссыкло! А не боишься, что они увидят, как ты теребишь свою…
И тут дверь распахивается.
Тридцать Восьмой как подкошенный валится в койку лицом вниз. Я начинаю было натягивать повязку — но не успеваю. Холодею, застываю, вжимаюсь в стену, зачем-то зажмуриваюсь. Мои нары — нижние, в самом углу, от входа меня не видно, но если я сделаю резкое движение сейчас, они точно заметят неладное.
Я жду вожатых — но шаги совсем другие.
Мелкие, легкие и какие-то нарушенные — шаркающие, немерные. Это не они… Неужели Девятьсот Шестого наконец выпустили из склепа?!
Я осторожно разожмуриваюсь, выглядываю из своей норы.
Встречаюсь взглядами со сгорбленным обритым мальчонкой. Под глазами у него черные тени, одной рукой он бережно придерживает другую, неловко повернутую.
— Шесть-Пять-Четыре? — разочарованно тяну я. — Тебя из лазарета выписали? А мы думали, они тебя на собеседовании совсем ухайдокали…
Его запавшие глаза округляются, он беззвучно шевелит губами, словно пытается что-то сказать мне, но…
Я подаюсь вперед, чтобы расслышать его, и вижу…
…застывшую в проеме фигуру.
Вдвое выше и вчетверо тяжелей самого крепкого пацана в нашей палате. Белый балахон, капюшон накинут, вместо собственного лица — лицо Зевса. Маска с черными прорезями. С перехваченным дыханием я медленно-медленно втягиваюсь назад, в свою нишу. Не знаю, видел ли он меня… Но если видел…
Дверь захлопывается.
Шестьсот Пятьдесят Четвертый пытается залезть на свою полку — третью снизу, но никак не может этого сделать. Рука у него, кажется, перебита. Я смотрю, как он делает одну попытку, морщась от боли, потом еще одну. Никто не вмешивается. Все лежат смирно, ослепленные своими глазными повязками, притворяясь крепко спящими. Все лгут. Во сне люди храпят, постанывают, а самые неосторожные еще и разговаривают. А в палате стоит душная тишина, в которой единственный звук — отчаянное сопение Шестьсот Пятьдесят Четвертого, который пытается забраться на свое место. Ему это почти удается, он хочет закинуть ногу на кровать и неловко поворачивает кисть; вскрикивает от боли и падает на пол.
— Иди сюда, — зачем-то говорю я. — Ляг на мою койку, а я на твоей досплю.
— Нет, — он ожесточенно мотает головой. — Это не мое место. Я не могу. Это не по правилам.
И лезет снова. Потом, бледный, садится на пол и сосредоточенно потеет.
— Тебе сказали, за что тебя? — спрашиваю я.
— За то же, за что и всех, — он криво пожимает плечами.
Взвывает сигнал «Подъем».
Девяносто восемь мальчишек срывают с себя повязки и сыплются с нар на пол.
— Помывка!
Все стягивают с себя пижамы с номерами, комкают одежду, зашвыривают ее на свои полки, соединяются в тройную цепь и, пряча в пригоршнях свои стручки, зябко жмутся, дожидаясь, пока не откроется дверь — а потом бледной гусеницей ползут через санитарный блок.
По трое мы проходим через душевую арку и, мокрые, голые, мнущиеся, выстраиваемся в зале. Здесь наша щербатая сотня, и еще одна, и еще — две старших группы.
Вдоль нашей тройной шеренги тяжело шагает главный вожатый. Его глаза так глубоко утоплены в пробоинах зевсовых глазниц, что кажется, будто их там нет вовсе, что маска надета на пустоту. Он невысок, но голова у него такая толстая, огромная, что даже Зевс налезает на него с трудом.
— Дрянь! — надрывается он. — Вы жалкая дрянь! Чертово семя! Ваше счастье, что мы живем в самом гуманном из государств, иначе вас давно передавили бы всех по очереди! С такими преступниками, как вы, в каком-нибудь Индокитае не церемонятся! И только здесь вас терпят!
Жерлами своих отсутствующих глаз он присасывается к нашим мечущимся зрачкам, и горе тому, чей взгляд он перехватит.
— Каждый европеец имеет право на бессмертие! — ревет он. — Только поэтому вы еще живы, ублюдки! Но мы для вас припасли кое-что пострашнее смерти! Вы будете вечно торчать тут, всю свою ублюдочью бесконечную жизнь будете тут торчать! Вам, выродкам, своей вины не искупить! Потому что за каждый день, который вы здесь проводите, вы успеваете наделать столько, чтобы еще два тут сидеть!
Глаза-присоски переползают с одного воспитанника на другого. За старшим следуют еще двое вожатых, неотличимые от него.
— Шесть-Девять-Один, — произносит главный, останавливаясь вдруг шагах в десяти от меня. — На воспитательные процедуры.
— Слушаюсь, — сникает Шестьсот Девяносто Первый.
Своей покорностью он может заслужить чуточку снисхождения в комнатах для собеседований — или нет. Это лотерея, как лотерея и то, что сейчас для воспитательных процедур отобрали именно Шестьсот Девяносто Первого.
Старшему докладывают обо всех грехах и грешках, которые каждый из нас натворил за последние сутки, и услышав раз, он не забудет ни единого из них — никогда. Шестьсот Девяносто Первого он может карать сейчас за проступок, совершенный сегодняшней ночью, или за ошибку, которую тот допустил год назад. Или за что-то, чего Шестьсот Девяносто Первый еще не делал. Мы все виновны изначально, вожатым не нужно выискивать повод, чтобы нас наказать.
— Ступай в комнату А3, — говорит старший.
И Шестьсот Девяносто Первый послушно тащится в пыточную — сам, без сопровождения.
Старший приближается ко мне; впереди себя он гонит такую волну ужаса, что у моих соседей начинают трястись колени. По-настоящему трястись, взаправду. Знает ли он о том, что я говорил сегодня в палате?
Я и сам весь вибрирую. Чувствую, как волоски привстают у меня на шее. Я хочу спрятаться от старшего, деть себя хоть куда-нибудь, но не могу.
Напротив нас стоит еще одна шеренга. В ней пятнадцатилетние — прыщавые, угловатые, с раздувшимися мышцами и внезапно рванувшим вверх позвоночными столбами, с тошнотным курчавым мхом между ног.
И ровно передо мной — он.
Пятьсот Третий.
Невысокий рядом со своими долговязыми однокашниками, но весь сплетенный из перекрученных напряженных мускулов и жил, он стоит чуть особняком: его ближайшие соседи прижимаются к другим, лишь бы держаться от него подальше. Как будто вокруг Пятьсот Третьего — силовое поле, отталкивающее других людей.
Большие зеленые глаза, чуть приплюснутый нос, широкий рот и жесткие черные волосы — в его внешности нет ничего отвратительного; его сторонятся не из-за уродства. Надо вглядеться в него, чтобы понять причину. Глаза полуприкрыты, но видно, что в них тлеет бешенство. Нос сломан в драках — и Пятьсот Третий не хочет его исправлять. Губы полные, плотоядные, искусанные. Волосы острижены коротко, чтобы за них нельзя было схватиться. Плечи покатые — и он держит их низко в какой-то своей звериной стойке. Он переминается с ноги на ногу, постоянно на взводе, словно нервный жгут, в который свернуто его тело, все время хочет развязаться, раскрутиться, хлестнуть.
— Что пялишься, малыш? — подмигивает он мне. — Передумал?
Я не слышу его голоса, но знаю, что он говорит. Озноб сменяется жаром. В уши начинает колотиться кровь. Я гляжу в сторону — и утыкаюсь в старшего вожатого.
— Преступники! — орет старший, подбираясь ко мне. — Сдохнуть, вот чего вы все заслуживаете!
Пятьсот Третий до меня рано или поздно доберется. А тогда уж лучше и вправду сдохнуть.
— Тебе понравится! — шепчет Пятьсот Третий из-за спины старшего вожатого.
— Но вместо того, чтобы перебить вас, мы тратим на вас еду, воду, воздух! Мы даем вам образование! Учим вас выживать! Драться! Терпеть боль! Набиваем в ваши тупые головы знания! Зачем?!
Он останавливается прямо надо мной. Черные отверстия наводятся на меня — не того меня, который стоит в зале, дрожа, прикрываясь ладонями, глядя старшему куда-то в солнечное сплетение, а того меня, который сидит, сжавшись, внутри этого мальчишки и смотрит через его зрачки как в дверной глазок.
— Зачем?! — громыхает у меня в ушах.
Я не сразу понимаю, что он требует ответа именно у меня. Значит, донесли… Я еле сглатываю — во рту сухо, гортань трется о корень языка.
— Зачем, Семьсот Семнадцатый?!
— Чтобы. Однажды. Мы. Могли. Заплатить. За все, — я выдавливаю слово за словом. — Искупить. Вину…
Старший вожатый молчит, с тихим свистом втягивая воздух через дырки в маске. Гневное лицо Зевса парализовано, будто его застиг инсульт в самый момент яростного исступления.
— Малышшш… — шипит по-удавьи из-за его спины Пятьсот Третий, но старший вожатый словно ничего не слышит.
— А зачем тебе вообще искупать свою вину? — спрашивает у меня старший.
Пот со лба течет мне в глаза.
— Чтобы…
— Шшшшш…
Нельзя жаловаться вожатым. Тот, кто жалуется, просто откладывает расправу над собой, но за эту выторгованную отсрочку ему набегают проценты боли и унижения. Краем глаза вижу, как старший отцепляется от меня на секунду — скользит горгоньим взглядом по Пятьсот Третьему, и его гнусное шипение умирает. Снова наставляет свои дыры на меня.
— Чтобы?!
— Чтобы свалить отсюда! Свалить отсюда хоть когда-нибудь! Хоть куда-нибудь!
Я затыкаю свой рот.
Жду хлесткого удара. Оскорблений. Жду номера комнаты для собеседований, куда мне предписано явиться, чтобы из меня выбили дурь — выдавили ее из меня в сток в полу. Но старший не делает ничего. Я выжигаю взглядом дыру в несгораемом напольном покрытии.
Молчание затягивается. Пот выедает глаза. Не могу утереться: руки заняты.
Потом решаюсь наконец. Вскидываю подбородок, готовясь встретиться с его прорезями…
Старший ушел. Двинулся дальше. Оставил меня в покое.
— Чушь! Никто из вас не свалит отсюда — никогда! Вам всем известно, есть только один способ! Сдать экзамены! Выдержать испытания! Завалите хоть одно — останетесь гнить тут вечно! — его голос грохочет уже где-то сбоку, удаляясь.
Я гляжу на Пятьсот Третьего. Тот улыбается.
Показываю ему средний палец. Он растягивает свою пасть еще шире.
И не отпускает меня, пока вожатые не разводят наши колонны в разные стороны — одеваться и топать на занятия. И, уже уходя, еще оглядывается и подмигивает.
Моя вина лишь в том, что на утреннем построении я стою напротив него.
От Пятьсот Третьего меня не защитит никто. Мало того, что он на голову меня выше — Пятьсот Третий еще и старше меня на целых три года. А это срок, по моим прикидкам, мало чем уступающий вечности.
Вожатые в эти дела не вмешиваются, просто выдают тем, кто повзрослее, таблетки безмятежности — и все. Будь я в нормальной десятке, было б хотя бы у кого просить помощи… Хотя кто решится подняться против Пятьсот Третьего и его упырей?
Кодекс говорит, что у воспитанника нет никого ближе, чем товарищи по десятке — нет, и быть не может. Но Пятьсот Третьему вместо товарищей удобней иметь рабов и любовников, превращая одних в других и обратно. Его десятка — бич божий.
Зато моя — сборище стукачей, слюнтяев и придурков. Сколько себя помню, всегда старался держаться от них подальше. Дебилам нельзя доверять, но слабакам верить еще опаснее.
Вот списочек.
Тридцать Восьмой — лощеный красавчик, ссыкливый кудрявый ангелок, пай-мальчик и перестраховщик, который за свою красоту и за свою пугливость платит оброк тем старшегруппникам, которые не принимают таблетки безмятежности.
Сто Пятьдесят Пятый — губастый весельчак-хулиган, сдающий товарищей за дополнительный час в кинозале. Поймаешь — божится, что это не он, прижмешь — клянется, что предать его заставили под пытками. Все врет. Нужно время, чтобы понять: для этого улыбчивого паренька все люди в мире, кроме него самого — дурацкие куклы, которыми нужно вертеть в свое удовольствие.
Триста Десятый — серьезный крепыш со стесанным болевым порогом, делящий мир аккуратно на две половины: темную и светлую. Такому нельзя рассказать ничего тайного — ведь в тайне хранят только то, что на свет лучше не вытаскивать. Да и не может умный человек верить, что каждое дело можно сложить либо в коробочку с надписью «хорошо», либо в коробочку с надписью «плохо».
Девятисотый — рослый, хмурый, бессловесный толстяк. Он выше всех нас и выше даже пятнадцатилетних, но при этом квелый до ужаса — и в довершение всего невыносимый тормоз. Добиться от него чего-то невозможно, лучше ни о чем не просить и ничего не предлагать: в лучшем случае — проигнорирует.
Двести Двадцатый — рыжий и весь в веснушках, с таким простецким и добрым лицом, что хочется немедленно ему исповедаться. Он и сам готов поделиться с кем угодно своими секретиками, да такими, что уже дослушать их до конца значит нарушить правила, а уж сочувственно кивнуть — точно обречь себя на воспитательную беседу. И вот странность — самого Двести Двадцатого с синяками никто никогда не видел, хотя в комнаты для собеседований его вызывают часто. Зато тех, кто с ним откровенничал, наказание настигает неизбежно, хотя и не сразу.
Седьмой — пухлик, тугодум и плакса. Никогда не разговаривал с ним дольше минуты: терпения не хватало дождаться ответа, а если его чуть встряхнешь — он сразу в слезы.
Пятьсот Восемьдесят Четвертый — прыщавый застенчивый онанист, контуженный преждевременным гормональным взрывом.
Сто Шестьдесят Третий — злобный шкет, яростный драчун, вечно курсирующий между комнатами для собеседований и лазаретом — не храбрый, а отчаянно безмозглый, упрямый, не знающий страха и не знающий, как пишется это слово.
Семьсот Семнадцатый. Ну, это я.
Одного не хватает. Девятьсот Шестого.
Того самого, которого забрали в склеп.
— Она не преступница, — говорит мне Девятьсот Шестой.
— Кто? — спрашиваю я у него.
— Моя мать.
— Завали хлебало! — я бью его в плечо.
— Сам завали!
— Заткнись, я тебе сказал! — оглядываюсь на провокатора Двести Двадцатого, который, навострив свои оттопыренные уши, подкрадывается к нам.
— Да пошел ты!
— Я тебе говорю… В правилах…
Оборачиваюсь к Двести Двадцатому лицом; тот уже весь изулыбался в предвкушении. Ничего, пусть хотя бы знает, что я его засек.
— Слышь! — Двести Двадцатый отмахивается от меня. — Если ты такая баба, что даже послушать про это боишься, то давай, двигай! Что ты там говорил, Девятьсот Шестой?
Мы сидим в кинозале. Последний час до отбоя нам разрешают оставить себе. Только этот час и можно засчитать на подобие человеческой жизни. Час в сутки. Мы живем в двадцать четыре раза меньше тех, кто на воле. Хотя о том, как они там существуют, и о том, что они существуют вообще, мы можем узнать только из увиденного в кинозале. И, конечно, все наши сведения о бабах тоже почерпнуты из фильмов.
Мало кто помнит свою жизнь до интерната — и уж точно никто в этом не сознается.
— Говорю, что моя мама — хороший человек, и она не виновата! — упрямо талдычит Девятьсот Шестой.
В кинозале — сто мест. Сто неудобных жестких кресел и сто маленьких экранов. Никаких объемных очков, никакой прямой проекции в зрачок. То, на что глядишь ты, может видеть каждый.
Раз в десять дней нашу сотню приводят сюда перед отбоем, чтобы мы могли культурно отдохнуть. Любой фильм из плейлиста длится не меньше двух часов, и, чтобы узнать, чем кончилась история, нужно ждать десять дней — и не совершить за это время ни единой оплошности.
На ста экранчиках — сто разных движущихся картинок. Каждый выбирает себе видео по вкусу. Кто-то смотрит про рыцарей, кто-то про космос, кто-то — хроники Европейской революции двадцать второго века; большинство за два уха уплетает боевики. Но любой трэш тут деликатес, а сам поход в кинозал — маленькое чудо. Это, наверное, единственный выбор, который нам дают сделать в интернате. Самому решать, какое видео будешь смотреть — все равно, что заказывать сны.
Но и такая, одна в десять дней, прогулка на воле проходит на коротком поводке: по залу расхаживают вожатые и заглядывают в наши сны из-за наших спин. Может, это и не выбор никакой, а очередная проверка на благонадежность.
Слева от меня сидит Девятьсот Шестой. Как всегда.
Я собираюсь сказать ему что-то. Сделать признание.
«Думаю отсюда сбежать. Не хочешь со мной?» — репетирую я про себя.
Бросаю на него косой взгляд и молчу.
«Давай смоемся отсюда… Одному у меня не получится, а вдвоем…»
Жую щеку. Не могу. Хочу ему верить и не могу.
Отворачиваюсь от него и утыкаюсь в экран.
Передо мной — дом под прямой крышей. Он весь составлен из параллелепипедов и кубов, и вовсе не похож на сказочные домишки из сладких детских анимашек. Простые, строгие формы, светло-бежевые однотонные стены… Но мне он почему-то кажется ужасно уютным — может быть, из-за огромных, в половину стены, окон, или дело в дощатой коричневой веранде под навесом, которая окружает его по периметру. Несмотря на свою прямолинейность, свою угловатость, он манит меня своей мягкостью и теплотой. Этот дом обжитой — и потому живой. Перед ним — ухоженная лужайка; в подстриженной траве стоят два забавных одноместных гамака: яйцеобразные плетеные кресла подвешены на долгих изогнутых ножках, качаются в такт. В одном — мужчина в полотняных штанах и льняной рубахе, ветерок перебирает пшеничные волосы, дым от самокрутки тонко вьется, размывается порывами ветра. В другом сидит, подтянув загорелые ноги, молодая женщина в легком белом платье, потягивает из бокала бледное вино и строчит что-то в небольшой гаджет — старинный телефон.
Их в этом мирке двое, но угадывается присутствие и еще кого-то. Внимательный зритель, задержав стоп-кадром панораму, заметит брошенный в траву велосипед, слишком маленький и для курящего мужчины, и для девушки с телефоном. Растянув картинку, в приближении найдешь на крыльце детские сандалии. И еще: рядом с женщиной в кресле-яйце сидит маленький пушистый белый медведь. На одном из кадров, если присмотреться, можно даже разглядеть серебряные ягоды-глаза на удивленной мордочке. Медведь не движется, это не экопет, а просто мягкая игрушка. Тем удивительней, что девушка подвинулась ради него, чтобы медведь мог тоже сидеть в кресле, что она, как живого, прикрыла его рукой, беря под свою уютную защиту.
Играет тихо какая-то музыка: струны и колокольчики. Ветер причесывает траву невидимыми пальцами, подкачивает коконы кресел.
Это самое начало «И глухие услышат», старинного кино про европейскую гражданскую войну девяносто седьмого года. Вот-вот дом, сложенный из кубиков, разорят, девушку изнасилуют и приколотят пятидюймовыми гвоздями к веранде, а потом спалят все дотла. Мужчина, опоздавший вернуться домой на день, за этот один день лишится всей своей жизни, будет вытолкнут в войну — и станет убивать людей, пока не доберется до тех, кто сломал, уничтожил его мир.
До финальных титров «Глухих» я дотерпел всего единожды, зато первые минуты пересматривал бесконечное число раз. Для меня это ритуал: каждое посещение кинозала непременно начинается с «Глухих», а уж потом я выбираю что-нибудь для развлечения.
Я всегда останавливаю время для этой счастливой пары за две секунды до того, как в конце аллеи появляются чужаки, и за пять до того, как начинает зудеть тревожная мелодия, анонсируя грядущую расправу. Не потому что пытаюсь этим спасти девушку в белом платье или ее дом — мне ведь уже двенадцать, и я давно все знаю про устройство жизни. Нет. Просто потому что дальше мне неинтересно: когда вместо струн зазвучит назойливый нервный бит, «Глухие» превратятся в обычное праведное крошилово, в один из ста тысяч боевиков, которые составляют плейлист нашего кинозала.
Я разглядываю завалившийся на бок маленький велосипед, убеждаюсь в который раз, что обувь на веранде может быть только детской; пытаюсь понять, откуда у женщины в белом такой пиетет перед игрушечным медведем — может быть, потому что он — полномочный посол в этом кресле кого-то другого, живого, любимого? И понимаю, что из кино вырезали что-то важное. Конечно, я догадываюсь, что.
Почти все видео в плейлисте, кроме пары древних анимационных фильмов — о героях и о борьбе, о войнах и о революциях. Вожатые говорят, это педагогично: из нас ведь воспитывают воинов. Но часто бывает — смотришь фильм, и вдруг теряешь сюжетную нить, путаешься в истории. Как будто с людьми в кино случилось что-то, о чем зрителям забыли сказать. Я не единственный, кто замечает, что из фильмов пропали сцены, но глядеть продолжают все. В конце концов, ведь самое-то главное — драки и погони, приключения, то, ради чего все и ходят в кинозал — не тронули!
Почти все.
По сотне дисплеев меня вокруг мчатся куда-то мигающие полицейские машины, закованные в броню кони, подбитые пропеллерные самолеты, моторные лодки, космические челноки, трубящие боевые слоны, люди в смокингах и в окровавленной военной форме, парусные корабли, реактивные глайдеры… Вся история человечества проносится в дыму и хаосе из ниоткуда в никуда.
А на моем экране — стоп-кадр. Дом из кубиков, кресла-коконы, сигаретный дымок, легкое платье, белый медведь с серебряными глазами.
У Девятьсот Шестого — брошенный в траву велосипед, детские сандалии на коричневой веранде, огромные окна.
Горизонт у нас общий: изгибы изумрудных тосканских холмов под небесной лазурью, кипарисовые веретена, рассыпающиеся часовенки из желтого камня. Бежевый дом с дощатой верандой находится под Флоренцией четыреста лет назад.
Мы не обсуждаем, почему раз в десять дней мы садимся с ним рядом, и перед тем, как приняться за прилежный просмотр кино о войнах и революциях, включаем «Глухих» и вместе прокручиваем первые минуты — до того момента, как стихают струны и колокольчики. Это наш заговор. Нас связывает обет молчания. Я хотел заговорить с ним, но не так. Не об этом!
— Заткнись, я тебе сказал! — я пихаю Девятьсот Шестого в грудь. — У всех преступники, а у тебя нет?!
— А мне до вас всех дела нет! Моя мать — честный человек!
— Конечно! — горячо поддерживает Двести Двадцатый. — Так ей и скажи!
— И скажу!
— Да пошли вы все!
Я вскакиваю со своего места и ухожу, злой на этого несчастного идиота. Раз он такой храбрый, пускай выворачивает душу на изнанку перед рыжим стукачом, мне плевать. Что мог, я сделал — и дальше подставляться из-за его упертости не намерен!
А что еще я могу сделать?
Ничего!
— Сам виноват! — кричу я Девятьсот Шестому, когда вожатые уволакивают его, сопротивляющегося, раскрасневшегося, в склеп. — Дебил!
Остальные смотрят молча.
Каждый день я ищу его глазами в столовой, на построении. Задерживаюсь, проходя мимо комнат для собеседования. Вслушиваюсь по ночам — вдруг в коридоре шаги, вдруг его выпустили? Мне не спится.
— Я сбегу отсюда! — однажды слышу я собственный голос.
— Замолчи и спи. Отсюда нельзя сбежать, — шепчет мне Триста Десятый, крепыш с черно-белым зрением.
— А я сбегу!
— Не говори так. Ты же знаешь, если они нас услышат… — лепечет пассивный серафимчик Тридцать Восьмой.
— Пусть слушают. Мне плевать.
— Ты что?! Забыл, что они сделали с Девятьсот Шестым?! Его в склеп забрали! — Тридцать Восьмой сипнет от страха.
Я хочу сказать «Я тут ни при чем!» или «Я его предупреждал!», но вместо этого говорю совсем другое.
— Ну и что?
— Его же до сих пор не выпустили оттуда… А сколько времени прошло!
— Девятьсот Шестой не собирался никуда бежать! — встревает подлец Двести Двадцатый. — Его за другое так! Он про родителей говорил. Я сам слышал.
Ему мало Девятьсот Шестого. Сдал одного, теперь хочет использовать его историю как наживку для других…
— И что рассказывал? — клюет кто-то из другой десятки.
— Заткнись, Двести Двадцать! Какая разница, что он там нес! — у меня сжимаются кулаки.
— Не заткнусь. Не заткнусь.
— Ты нас всех подставляешь, гнида! — кричу я ему шепотом. — Хватит о родителях вообще!
— А тебе что, не хочется знать, где они сейчас? — подначивает он меня. — Как у них дела?
— Вообще никак! Я просто хочу сбежать отсюда, и все. А вы все оставайтесь тут тухнуть! И всю жизнь ссытесь от страха себе в койку!
— Давайте спать, а? — примирительно просит Тридцать Восьмой. — И так до побудки уже всего ничего осталось!
Двести Двадцатый удовлетворенно замолкает. Моего выступления ему вполне хватит для жирного, наваристого доноса. Я хочу разбить ему нос, хочу вывернуть ему руку, хочу, чтобы он кричал и просил отпустить, хочу зубы ему повыбивать. Давно хочу — и ничего не делаю, ссыкло.
— Вот-вот. Заткнись уже, Семьсот Семнадцать! А если они и правда все слышат? — поддакивает ушастый и прыщавый Пятьсот Восемьдесят Четвертый, не снимая на всякий случай повязки.
— Сам заткнись! Ссыкло! — кричу ему я. — А не боишься, что они увидят, как ты теребишь свою…
Открывается дверь. Я изо всех сил, почти вслух, прошу, чтобы это был Девятьсот Шестой.
«Думаю отсюда сбежать. Не хочешь со мной?».
Пользуюсь каждой возможностью. Стараюсь улизнуть с занятий, притворяюсь больным, по нескольку раз за ночь отпрашиваюсь в сортир — все для того, чтобы одному пройти по коридорам, приглядываясь, прислушиваясь.
Белые гладкие стены, ряд белых дверей без ручек, назойливый белый свет с потолка. У коридора нет конца — он закругляется, и с обеих сторон прячется сам в себе: проем скрывается за поворотом. Если пойти вперед, попадешь туда же, откуда вышел. Геометрия.
Потолок не только светит, но и смотрит. Он весь — одна система наблюдения с тысячью глаз, но зрачков ее не видно — они сплошь затянуты молочным бельмом. Из-за этого бельма не знаешь, видят ли тебя сейчас, поэтому приходится вести себя так, будто тебя видят всегда.
Спрятаться негде. Тут нет тупиков, нет темных углов — и нет углов вообще, нет закутков и нет даже щелей, в которые можно было бы забиться. Нет окон. Ни единого окна. Об окнах я знаю из кино.
Из интерната нет выхода. Это пространство замкнуто, как яйцо изнутри.
Тут всего три этажа, соединенные лифтом с тремя кнопками. И каждый из трех этажей выглядит точно так же, как этот. На первом — ясли, где держат самую мелюзгу, на втором — младшие, до одиннадцати лет, на третьем — взрослые, от двенадцати и до конца.
Все двери в круглом коридоре одинаковые, и ни на одной нет надписей. На третьем этаже их тридцать. Со временем учишься запоминать, где какая.
Четыре спальных палаты, санблок, зал собраний, девять лекториев, четыре спортивных зала, дверь в комнаты для собеседований, спальня вожатых и кабинет старшего вожатого, кинозал, пять рингов, столовая, лифт.
Я обхожу двери одну за одной, в тысячный раз пересчитывая, чтобы убедиться: их действительно тридцать, я ничего не пропустил.
Вспоминаю, как искал отсюда выход, еще когда был совсем мелким; карта первого этажа выжжена на моей глазной сетчатке, до того часто я рисовал ее и разглядывал. Те же тридцать дверей: три палаты, спальня вожатых, кабинет старшего, санблок, зал собраний, три спортзала, игровая, пять рингов, десять учебных классов, кинозал, дверь в комнаты для собеседований, столовая, лифт.
Ни одна дверь не ведет наружу. Помню, маленьким я думал, что выход из интерната должен быть где-то на втором или на третьем. Когда подрос и меня перевели на второй, мне оставался только третий. Теперь, когда я живу на третьем, мне кажется, что я, наверное, просто плохо искал на первых двух этажах.
Нас с самого начала приучают к мысли, что отсюда нет выхода. Но ведь должен быть вход! Ведь мелкие тут откуда-то берутся!
Я терпеливо обхожу дверь за дверью; на занятиях осматриваю аудитории и ринги. Все стены гладки и герметичны; если тереться о них чересчур назойливо, они начинают покалывать током.
Меня вызывают в комнату для собеседований. Интересуются, почему я так себя веду, и, увлекшись, ломают мне безымянный палец на левой руке. Адская боль; палец торчит, согнутый в обратную сторону. Я смотрю на него и понимаю, что меня теперь должны отправить в лазарет. Хорошо: так я смогу попасть на второй этаж и проверить его заново.
— Что ты ищешь? — спрашивает меня вожатый.
— Выход, — говорю я.
Он смеется.
Когда я жил на первом, пацаны перед сном шептались, что интернат закопан на глубине нескольких километров, что он находится в бункере, устроенном в гранитном массиве. Что мы — единственные, кто пережил ядерную войну, и что мы — надежда человечества. Другие клялись, что мы заключены на борту ракеты, отправленной за пределы Солнечной системы, и должны стать первыми колонистами, которые будут осваивать Тау Кита. Простительно: нам было лет по пять-шесть. Вожатые уже тогда прямо говорили нам, что мы — отбросы и преступники, что нас засунули в это проклятое яйцо, потому что другого места для нас на земле нету, но когда тебе шесть лет, любая сказка лучше такой правды.
К десяти никого уже не колебало, где находится интернат, а к двенадцати всем стало насрать, что нас не ждет великая судьба и что у нас нет вообще никакого предназначения. Не очень ясно было только, зачем нам вообще в подробностях узнавать о каком-то внешнем мире, учить его историю и географию, знакомиться с культурой и законами физики, если в этот мир нас не планируется выпускать никогда. Наверное, чтобы мы понимали, чего нас лишают.
Но я был бы готов отсидеть тут вечность, если бы на утренних построениях не оказывался бы напротив Пятьсот Третьего. Такие мелочи иногда портят всю долбаную космическую гармонию.
На втором этаже — те же слепые стены, те же безликие двери.
Баюкая свой сломанный палец, обхожу одну за другой. Ринги, классы, медиатека, палаты; белое на белом, как и везде. Ничего.
Являюсь в лазарет: врач, кажется, на обходе. Дверь в его кабинет приоткрыта. Обычно сюда нет хода пациентам; такого шанса упускать нельзя. Поколебавшись секунду, проскальзываю внутрь — и оказываюсь в просторном помещении: пульт, кровать, мерцающие голограммы внутренних органов на подставках. Стерильно и скучно. В другом конце помещения — еще одна дверь, и тоже открытая. И там…
Иду вперед, слыша, как разгоняется сердце и замедляется время. Из проема доносятся голоса, но я продолжаю шагать, не боясь быть обнаруженным. Адреналин включает слоу-моушен, я как в кино.
— Как так вышло? — недовольный бас.
— Забыли… — ржавый голос старшего вожатого.
— Забыли?
— Передержали.
Их разговор мне не понятен и не интересен. Единственное, что меня занимает — всплывающее в дверном проеме, огромное, занимающее всю стену дальней комнаты, в которой разговаривают эти двое…
Окно.
Единственное окно на весь интернат.
Я задерживаю дыхание, подкрадываюсь так близко к дверям, как могу…
И в первый раз выглядываю наружу.
По крайней мере, теперь я знаю, что мы не на борту межгалактического корабля и не в гранитном склепе…
За окном — могучий город, город тысячи тысяч грандиозных башен, столпов, которые стоят на невероятно далекой земле и уходят вверх в бесконечно далекие небеса. Город для миллиардов людей.
Башни видятся мне, таракану, микробу, ногами невообразимо громадных человекоподобных созданий, атлантов, которым облака по колено, и на плечах которых держится небосвод. Это самое великое зрелище из всех, которые существуют; я, конечно, никогда не смог бы вообразить что-либо столь же величественное.
Что там — я никогда не сумел бы просто представить себе, что в мире может разом быть столько места!
Я делаю самое потрясающее географическое открытие всех времен и народов.
Для меня оно важнее, чем для Галилея — предположить, что Земля круглая, а для Магеллана — доказать это. Важней, чем убедиться, что мы не одни во Вселенной.
Мое открытие: за пределами интерната действительно есть мир! Я нашел выход! Мне есть, куда бежать!!! Остальное — вопрос техники.
— Ты что, дверь не закрыл?
Дергаюсь — схватили за волосы.
— Давай его сюда!
Меня зашвыривают внутрь. Успеваю увидеть стол, на котором лежит здоровенный продолговатый пакет на застежке — старший вожатый тут же его загораживает, кучу инструментов, нашего доктора с лицом таким усталым и брезгливым, что молодость ему не идет, и раму с дверной ручкой на окне.
— Ты что здесь потерял, щенок?!
— Ищу доктора… Вот…
Старший вожатый хватает меня за палец, который я ему демонстрирую, будто это пропуск или защитный амулет, и дергает с такой силищей, что мне глаза засыпает горячими звездами. Валюсь на пол, задыхаясь от боли.
— Забудь об этом, ясно?!
Я не могу ответить — отчаянно стараясь вдохнуть.
— Ясно?! Ясно тебе, тварь?!
— А что… — моя боль, кипящее олово, отливается в ярость. — А что вы мне сделаете?! Что вы мне сделаете-то?! А?!! — кричу я ему в ответ. — Что?!
Черные глазницы пялятся мне внутрь.
— Не здесь, — говорит доктор.
— Ничего вы мне не сделаете! — я юлой выкручиваюсь. — Мы все равно свалим отсюда! — проскальзываю у старшего между ног и выбегаю через кабинет, через затрепыхавшихся пациентов, в коридор.
Мчусь к лифту, влетаю в него, жму все кнопки сразу — вдруг вспоминаю сто лет назад, в детстве, слышанную байку, что в интернате есть еще и нулевой этаж, через который сюда и попадают новички. Мол, если нажать все кнопки одновременно и подержать определенное время, тебя доставят то ли вверх, то ли вниз — на этот тайный уровень…
Дверь закрывается, лифт ползет куда-то. Если нулевого этажа не существует, мне хана.
Когда створки разъезжаются, я не могу определить, на каком этаже очутился. Белые стены, белый потолок… В коридоре никого. Я, оскальзываясь, бегу вперед мимо запертых дверей, ища хотя бы одну открытую.
Наконец вижу проем. Ныряю в него, не понимая еще, куда попал, прижимаюсь к стене, сползаю по ней. Почему за мной нет погони? Старший вожатый ни за что не простит мне этой выходки… Не простит, что я видел окно и смотрел в него, что узнал про выход.
Оглядываюсь.
Я в кинозале; он совсем пустой, и свет тусклый — все сейчас на занятиях. Медленно проползаю через ряды, забиваюсь в дальний угол, вызываю плейлист, прошу «Глухих».
Включаю с самого начала.
Меня колотит озноб. Чтобы согреться, забираюсь на сиденье с ногами, прячу подбородок в коленях.
Титры.
Я сижу на нагретых досках веранды, рядом со мной стоит пара детских сандалий; в приоткрытой оконной створке вижу настоящего живого кота — толстого, бело-рыжего. Бриз покачивает коконы кресел, в которых спиной ко мне сидят два человека — мужчина и женщина. Синяя струйка дыма на короткий миг возникает в воздухе — и тут же исчезает, размазанная ветром.
Смотрю на велик, который я, накатавшись, бросил в траву. По хромированному бликующему звонку ползет муравей. Солнце, закатываясь за зеленый холм, увенчанный старой церквушкой, на прощание целует мне руки.
Мне хорошо, покойно и удивительно мирно. Я на своем месте.
— Давай смоемся отсюда… Одному у меня не получится, а вдвоем… — говорю я Девятьсот Шестому.
Он не отвечает.
Я чувствую, что воздух вокруг становится вязким, плотным, как вода, что его, как чернила каракатицы, наполняет, мутит надвигающаяся беда. Несчастье нависает переполненным выменем над домом из кубиков, придавливает своими набухшими сосцами сидящих в креслах; нам всем скоро сосать его яд.
Но я притворяюсь, что это все не сейчас, не со мной. Ставлю видео на паузу, ставлю на паузу время, чтобы отвратить неотвратимое.
— Ну че, глиста? — слышу за спиной.
Пятьсот Третий! Его голос! Мне не надо оборачиваться, чтобы понять, кто говорит со мной. Поэтому, вместо того, чтобы тратить время на лишние движения, я сразу рвусь вперед. И не успеваю.
Мою шею запирает его локоть. Он рвет меня назад и вверх, выкорчевывая меня из моего гнезда, придушивая и перетягивая на задний ряд. Я извиваюсь, стараюсь освободиться — но его жилистые руки окаменели, я не могу разжать замок.
— Не смей! Не смей! Я… Я… Я им… фффсе рассскажшууу….
Я дрыгаю ногами — хоть за что-нибудь зацепиться бы, хоть какую-нибудь бы опору…
— А ты что думаешь… Они не знают?.. — говорит он мне в шею.
Пятьсот Третий смеется сипяще: «Ххххх…» — и продолжает удавливать меня; его дыхание щекочет мне затылок. Я пытаюсь бить назад, надеюсь попасть ему по яйцам, но он держит меня как-то хитро, и я все промахиваюсь; а даже если бы и попал — с воздухом из меня ушли все силы, удар получился бы слабый, как во сне.
— Мне поручили… Тебя… Наказать…
Он свободной рукой нашаривает пуговицу на моих штанах, рвет ее, сдергивает штаны вниз — до колен. Мою спину трогает что-то маленькое, твердое, мерзкое. У него встало!
Внизу живота мерзко щекочет. Я сейчас…
— Отвали! Отвали! Слышишь!
И тут мне колени заливает горячим. Я мертвею от ужаса и от стыда.
— Ты что, обоссался?! Ах ты, говнюк! Ты обоссался?!
Хватка слабнет. Я пользуюсь этим, выкручиваюсь, бью его пальцами в глаза, пытаюсь сбежать — но он справляется с брезгливостью, заваливает меня на пол, в проход между сиденьями, подминает под себя…
Его глаза полуприкрыты, рот ощерен, я вижу щели между зубами…
— Ну давай… Попробуй удрать… Малыш…
И тут я делаю единственное, что могу сделать в этой скользкой звериной борьбе.
Отчаянным броском рвусь вверх и впиваюсь в его ухо. Процарапываю зубами по потным волосам, по коже, стискиваю челюсть, давлю!
— Мразота! Выпусти! Паскуда! Аааа!!!
Пятьсот Третий, забыв себя от боли и страха, толкает меня, я отваливаюсь — с мягким и горячим во рту; он зажимает ладонью кровавую дыру на своей голове. Во рту солоно и отдает еще чем-то незнакомым, он переполнен, меня вот-вот вывернет. Я отползаю, вскакиваю, на бегу вытаскиваю изо рта ухо — изжеванный сопливый хрящ — зачем-то сжимаю его в руке, и удираю, удираю из проклятого кинозала, что есть ног.
— Мраааазь! Суууука!
Я стою в белом коридоре без углов и без выхода; в руке — мой дерьмовый трофей, полуспущенные портки обмочены. С потолка на меня слепо смотрит всевидящее око. Когда меня будут убивать, оно не моргнет.
Я сбегу отсюда или сдохну.
Я сбегу отсюда. Сбегу.

Коммуникатор пищит еле слышно, но я подскакиваю до потолка.
Вызов!
Неважно, спишь ты, что ты пил и с чем мешал, в борделе ты или на операционном столе — когда приходит вызов на рейд, ты должен сорваться с места за минуту. Минуты вполне достаточно, в особенности, если спать одетым.
И если не пить на ночь.
Из головы, кажется, вытянули все серое вещество, а взамен накачали туда густой морской воды и запустили рыбок. Теперь моя задача — не разбить этот долбаный аквариум.
Не знаю, сколько я проспал, но печени этого времени явно не хватило, чтобы справиться с жалкой половиной бутылки. Я на три четверти состою из текилы. Во рту кислятина. Череп и вправду словно стеклянный, и все внешние звуки царапают его, как гвозди. Рыбкам в моей голове как-то не очень, они просятся на свободу.
На дно аквариума оседает мутная взвесь недосмотренного кошмара. Не помню, что мне снилось, но настроение у меня самое паскудное.
Чтобы протрезветь, кусаю себя за руку.
Тех, кто опаздывает, ждет дисциплинарный трибунал. Но, какое наказание он ни назначил бы, никто из нас даже не думает уйти из Фаланги. Дело не в деньгах: рядовых штурмовиков особо не балуют. Но попробуй назови другую службу, которая могла вот так же стать бы смыслом жизни. А в бесконечной жизни смысл — особый дефицит. На земле, пихаясь локтями, колупаются в вечности целый триллион человек, и большинство из них не может похвастаться тем, что делает хоть что-нибудь полезное: все полезное, считай, уже было сделано триста лет назад. Но вот то, чем занимаемся мы, будет востребовано всегда. Нет, таким не разбрасываются.
На коммуникаторе высвечиваются координаты локации, в которой мы должны оказаться через час. Башня «Гиперборея». Никогда не слышал. И находится у черта на рогах. Что за странное место? Успеть бы ко времени...
Вытаскиваю из шкафа мешок с комплектом формы, перекладываю туда маску и шокер — и все, я готов. Натяну на себя черное ближе к делу, незачем преждевременно нервировать обывателей.
Из мешка несет розами: в моей прачечной они почему-то ароматизируют одежду этой дрянью. Не всем, причем, а только «любимым клиентам». Я, ясное дело, любимый: мне приходится стираться у них ежедневно. Сводить с формы чужую кровь, мочу, пот, блевотину. Сколько раз я просил у них обходиться без этой розовой отдушки, но, видимо, их система просто не предусматривает возможности отказаться от такого подарка судьбы. Поэтому на службу я являюсь всегда, благоухая как педик. Хорошо, что Даниэль стирается в такой же прачечной, так что и он пахнет розочками, а насчет Даниэля никто из наших шутить не станет.
Я вливаюсь в тысячеголовое человеческое стадо, которое медленно течет к транспортному хабу. В башне «Наваха», где находится моя конура, расположен один из главных терминалов скоростных туб. Поэтому, собственно, я ее и выбрал: минута в лифте — и ты на вокзале. Еще полчаса — и вкалываешь кому-нибудь блок. Все по графику.
Я вообще практичный парень.
Люди вползают в горлышко главного входа, набиваются в распределитель и толкутся там, пока не отыщут свой гейт — и только отстояв очередь на посадку, наконец рассаживаются по вагонам скоростных туб и разлетаются кто куда. Давка внутри хаба кошмарная. Конструкция продумана великолепно: архитекторы явно вдохновлялись образом мясорубки. Мне с моей любовью к толпе и томящимися в неволе рыбками — сейчас самое оно, что окончательно слететь с винта.
Какой у меня гейт? Какая это туба? Какое направление?
Что мне снилось?
Нужен звонок другу.
— Даниэль! — говорю я коммуникатору.
Молчание. Раз, два, три...
— Какого?! — сипит перекошенная рожа на экране. — Четыре ночи!
— Ты проспал?! — сиплю я в ответ. — Посмотри на комм! Вызов!
— Какой еще, к едреной матери, вызов?!
— Башня «Гиперборея»! Срочно!
— Погоди... — он сосредоточенно сопит, отматывая полученные сообщения. — Это во сколько тебе пришло?
— Пятнадцать минут назад!
— У меня ничего нет.
— То есть?..
— Меня никуда не вызывали.
— Ты шутишь?
— Я тебе говорю: у меня ничего.
— Ладно. Я... Я узнаю у Эла. Извини, что поднял...
Прежде чем рассоединиться, мы еще несколько минут молчим. Даниэль подозрительно смотрит на меня с запястья. Сна ни в одном глазу. Я тоже просыпаюсь.
Мы — звено. Одна семья. Единый организм. Он — кулак, Эл — мозг, я — глотка... Остальные — руки, ноги, сердце, желудок, все такое. Всегда вместе. На всех рейдах, на всех операциях. Состав звеньев не меняется, разве что если кого-то укатают в госпиталь или спишут на свалку.
Но Даниэль в порядке. Он в порядке! С какой стати его отстранять? Может, он в прошлом рейде наделал дел? Откуда мне знать, что у них там случилось, пока я обрабатывал молодых мамаш?
И все равно — это как ампутация. Даниэль — наш, а мы — его. Не нужно нам никаких чужаков в звене. Не хочу я, чтобы вместо кулака нам чей-нибудь хер приштопали!
— Эл! — требую я у коммуникатора.
Звеньевой тоже отвечает не сразу.
— Что еще у тебя стряслось? — голос недовольный, ржавый со сна.
— У меня-то все прекрасно, за исключением того, что я понятия не имею, где эта ваша долбаная «Гиперборея». Где встречаемся? И что с Даниэлем?
— Что с Даниэлем? — тупо повторяет Эл.
— Это я тебя спрашиваю! Почему его сняли с рейда? Что-то серьезное?
— Понятия не имею... Вечером только разговаривал. Погоди... С какого рейда?
— В «Гиперборею»! Ты где вообще? — я пытаюсь разглядеть, что там у Эла на фоне.
— Ты нажрался опять?! — вдруг орет он.
— Что?
— Опять, говорю, нажрался?! Какая еще «Гиперборея»?! Какой, в задницу, рейд?! Что ты лыбишься? Ложись, спи!
Он отрубается.
Я останавливаюсь — но толпа продолжает нести меня вперед, в горловину главного входа. Окей, покорно волокусь дальше вместе с рекой человеческого фарша — у меня нет сейчас сил сопротивляться. Я слишком занят тем, что пытаюсь понять, действительно ли я могу заснуть обратно в тот мир, где меня никуда не вызывали. Не думаю: мое чудесное подсознание, если не пичкать его снотворным под завязку, каждую ночь упрямо норовит упечь меня обратно в интернат. Хорошо еще, что сегодня меня досрочно освободил оттуда вызов на рейд. Ведь был вызов, так?
Проверяю коммуникатор. Сообщение о рейде на месте, координаты прежние. Рыбки в аквариуме начинают нервничать. Похоже, ситуация несколько сложнее, чем видится Элу. Белой горячкой тут не обойдешься.
Чуть не выдавив из меня вчерашний спартанский ужин, толпа уминается в жерло транспортного хаба. Прорвавшись внутрь, в громадное помещение под экраном-куполом (самый большой рекламный носитель в городе!) сплошной бурлящий поток голов разбивается на сотню ручейков: каждый устремляется к своему гейту. Тубы подходят к стенам круглой башни на нескольких уровнях по касательной. Прозрачные, как шприцы, поезда останавливаются, насасываются толпой, и улетают в темноту.
Какой гейт мой? Куда мне? Кто меня вызывает?
Игрой течений меня выносит в середину этого моря; я попадаю в какую-то мертвую точку, где меня перестают сердито пихать и подталкивать, оттирать локтями и тащить за собой, и предоставляют мне валандаться самому по себе, лениво трезвея.
И только тут до меня доходит окончательно: ни Даниэля, ни Эла никуда не вызывали. И все остальные наши тоже продолжают сопеть в своих койках.
Это мой личный рейд. Задание от господина Шрейера.
Первая операция, которой я должен командовать сам.
Шанс стать человеком. Такой, может, раз в жизни дается.
— Время! — говорю я коммуникатору.
Осталось полчаса, отвечает он мне.
— Маршрут к башне «Гиперборея», — приказываю я.
На одном из рейдов был случай: пока Эл допрашивал каких-то мамаш, мне пришлось успокаивать рассопливевшуюся девчонку лет трех. Понятия не имел, что делать с этой мартышкой. Хорошо, под руки подвернулась ее игра: куча запутанных ходов, похожие на вываленные кишки, в одном конце — заяц с опущенными ушами, в другом — домик с горящими окошками. «Помоги заблудившемуся зайчику найти дорогу домой». Лабиринт. Надо пальцем провести по экрану от гребаного зайца до гребаного домика. По мне — так себе развлечение, но девчонку оно просто загипнотизировало, так что она не мешала Элу вкалывать ее маме старость.
Помоги заблудившемуся зайчику найти дорогу от хаба до башни «Гиперборея», Господи.
— Гейт семьдесят один, отправление поезда через четыре минуты.
Черт знает, как часто они ходят. Опоздаю на четыре минуты — могу опоздать навсегда.
Озираюсь вокруг, отыскивая светящиеся цифры «71».
И тут накатывает...
Пока я смотрел внутрь себя, все было более или менее, но, стоило мне выглянуть наружу, как на меня наваливается паника.
На лбу выступает жирный пот.
Гул толпы, который до сих пор приглушенно играл фоном, вступает в полную мощь — чудовищным разлаженным оркестром из ста тысяч инструментов, каждый из которых упрямо и ревниво играет свою мелодийку.
Над моей головой — купольный экран. Красивый юноша рекомендует мне вживить коммуникатор нового поколения прямо в мозг. Одна беда: экран - размером с футбольное поле, и юноша занимает его весь. Волосы у него как канаты, в зрачок проедет поезд. Мне страшно.
— Stay in touch! — глядя с неба, он опускает на меня свой указательный палец. — Always.
Это, наверное, аллюзия на ту даже масс-маркету набившую оскомину фреску, где бог протягивает руку человеку; Микеланджело, что ли? Но мне кажется, что этот прекраснолицый архангел пытается меня припечатать, как клопа. Я втягиваю голову, зажмуриваюсь.
Раздавленный, я в самом центре клокочущего полукилометрового котла; вокруг меня водят хоровод сто тысяч человек. Цифры над гейтами сдвигаются с места и едут по кругу: 71 72 73 77 80 85 89 90 9299 1001239 923364567 слипаясь, превращаясь в одно невиданное сплошное число, в имя бесконечности.
Надо соскочить с этой чертовой карусели!
Надо взять себя в руки! Пропороть толпу!
— Три минуты до отправления поезда.
Этот поезд — последний. На него нельзя опоздать.
Я закрываю глаза и представляю, что стою по пояс в зеленой траве.
Вдох... Выдох...
А потом двигаю наугад кому-то в челюсть, другого отбрасываю в сторону, локтем вклиниваюсь между телами — они сначала напрягаются, но потом обмякают, а я, наоборот, крепну, каменею, пропахиваю поле, давлю, топчу, разрываю...
— С дороги, твари!
— Полиция!
— Пропустите его, он ненормальный...
— Что вы делаете?!
— Да я тебя сейчас...
— Это клаустрофобия! У него приступ, у моей жены клаустрофобия, я знаю...
— Да пошел ты! — ору я на него.
Сначала я несусь просто вперед, не отдавая себе отчета, куда движусь. На какой-то миг передо мной мелькает «71», и я силюсь сфокусироваться на этих цифрах, но кто-то хватает меня за шиворот, пытается задержать, и я снова сбиваюсь. Через пару секунд я ступаю по его лицу. Оно мягкое.
Я — маленький шарик. Мне нужно попасть в ячейку с цифрами «71», тогда — выигрыш, а игра идет ва-банк, на кон поставлено все. Я почти пристроился в нужный желобок, но тут кто-то дает мне под дых, и дьявольская рулетка раскручивается заново.
Люди облепляют меня, виснут на моих руках, цепляются за ноги, лезут губами мне в лицо — отнимать у меня воздух, тычутся глазами в мои глаза — хотят потереться еще и душами, потому что плотней сблизиться телами уже не получается.
— Пропустите! Пропустите! Выпустите меня!!! — ору я.
Зажмуриваюсь и бегу по чужим ботинкам — медленно, как в бассейне по шею в воде.
— Тридцать секунд до отправления.
Коммуникатор, наверное, предупреждал меня, что время на исходе, но его дисканте затерялось в хоре людей, которым я отдавил ноги.
Впереди — брешь.
Гейт! Какой-то — неважно уже, какой.
Сквозь стену видно, как из темноты подлетает и замирает у дверей поезд — пробирка со светом.
— С дор-р-р-роги!
В стеклянную емкость вагонов набирается темная человеческая масса, медленная, как ртуть. У дверей толкучка. Судьба говорит мне благожелательным механическим голосом:
— Поезд отправляется. Пожалуйста, отойдите от вагона.
— Не напирайте! Все равно все не влезут! — визжит какая-то бабенка.
— Да пошла ты!
Я хватаю ее, возмущенную, за запястье, оттаскиваю в сторону, а сам бросаюсь вперед, сквозь уже схлопывающиеся створки.
Проталкиваюсь внутрь! И мне, и всему вагону приходится выдохнуть, чтобы мне нашлось местечко внутри. Пассажиры молчат и терпят. Мир не без добрых людей.
И так, без воздуха, мы отправляемся в пустоту.
Рулетка остановилась. Но я понятия не имею, в какой ячейке я оказался. Не знаю, что мне выпало.
Теперь мне нужно разобраться с моими внутренними органами. Раскрутить скукоженные кишки. Разлепить склеившиеся меха легких, вернуть им ритм. Обуздать галопирующее сердце. Это непросто: вагон забит до отказа. Чтобы не запачкать всех этих самаритян, я прислоняюсь лбом к черному стеклу, и смотрю наружу.
Туба прозрачной веной протягивается от пульсирующего сердца-хаба к неведомым конечностям спящего титана, и мы, как капсула с вирусом, летим по его сосудам, мчимся заражать далекие небоскребы своей формой жизни.
Этот образ успокаивает меня. Я усмиряю дыхание, и соленая слюна перестает сочиться мне в рот. Тошнота отступает.
Но куда я еду?
— Какой это маршрут? — оборачиваюсь я к соседу — тридцатилетнему бородачу в фиолетовом пиджаке. — Какой это был гейт?
Мы все выглядим, как тридцатилетние, за исключением тех, кто молодится.
— Семьдесят второй, — отвечает тот.
Вот как.
Ошибся платформой. Перепутал «Ориент-Экспресс» с поездом до Освенцима. Надо было слушать, когда судьба советовала мне отойти от вагона.
Следующая остановка может быть где угодно — за двести, за триста километров отсюда. Составы полностью автоматические, их не остановить. Пока я доеду до ближайшей станции, дождусь обратного поезда, вернусь в хаб... Если я опоздаю, они начнут без меня. Я помню слова Шрейера: Пятьсот Третий будет там. Если не явился, командование переходит к нему, и он-то не упустит своего шанса выслужиться. А я останусь отбывать пожизненное в своей одиночке с видом на прогаженную детскую мечту.
Я, похоже, застрял в моменте, где мне сообщили, что я сел не на тот поезд; вишу на стоп-кадре — с открытым ртом пялюсь на бородатого. Он сначала пытается притвориться, будто так и надо, но потом не выдерживает.
— Что-то хотели?
— Очень красивый пиджак, — рассеянно говорю ему я. — Не говоря уже о бороде.
Он приподнимает бровь.
Пока я доберусь до этой башни, операция точно уже закончится; если их там всего двое, звену вряд ли понадобится больше десяти минут.
Есть в этой истории и кое-что похуже упущенных карьерных возможностей и нерешенного жилищного вопроса. Пятьсот Третий наверняка решит, что я просто побоялся с ним встречаться. Что я просто слил.
— А у тебя рубашка отличная. И нос милый. Такая римская горбинка... — задумчиво произносит бородач. — Супер.
— Это перелом, — автоматически откликаюсь я.
Что лучше — показаться тем, кто доверяет тебе секретную миссию, идиотом — или трусом? Непростой выбор. Надо поразмыслить и принять взвешенное решение.
Поезд несется, ныряет меж смазанных башен. Табло показывает: скорость 413 км\/ч.
— Выглядит мужественно, — уважительно кивает фиолетовый. — А я себе шрамы сделал.
— Шрамы?
— На груди и на бицепсах. Пока на этом остановился, хотя были и еще идеи. Слушай, а сколько стоит так нос оформить?
— Мне бесплатно сделали. По знакомству, — шучу я.
— Везет. А я целое состояние выложил. Они мне все предлагали объемное тату, но это же вчерашний день. А шрамирование возвращается.
— У меня есть пара знакомых, которым будет приятно это слышать.
— Правда? Шрамирование — чистый секс. Так первобытно.
Задача. Дано: гребаный поезд мчится в неверном направлении со скоростью 413 километров в час. Вопрос: на какое расстояние я забился глубже в задницу, пока бородатый говорил «Шрамирование — чистый секс»? Решение: нужно разделить четыреста тринадцать на шестьдесят (узнаем, сколько поезд проезжает за минуту), а потом еще на двадцать (потому что бородатому нужно примерно три секунды, чтобы изречь эту мысль). Ответ: примерно на триста метров. И пока я говорил про себя «Примерно на триста метров», я оказался еще примерно на триста метров глубже.
И я ничего не могу поделать. Еще триста.
— Неверный маршрут, — сообщает мне коммуникатор. Доброе утро, падла.
На экранчике все еще висит вызов, издевательски мне подмигивая.
Гнить мне в моем кубике.
Это с прежних времен такое выражение осталось: гнить. Теперь мы все накачаны консервантами и не сгнием никогда. Того хуже — если ты гниешь, по крайней мере, есть надежда, что однажды все кончится.
— У тебя глаза просто супер, — говорит фиолетовый. — Может, поедем ко мне?
Я осознаю, что все время нашего с ним разговора мы прикасаемся друг к другу всем, кроме рук; мы близки так, как только могут быть близки кузнечики в пачке, как сардины в банке. И вот фиолетовый хочет продолжить со мной эту рыбью любовь.
— Прости, — у меня садится голос. — Я как-то по девочкам.
— Ну ты что! Ну не разочаровывай! — морщится он. — Девочки — это вчерашний день. У меня целая куча друзей раньше с телочками чпокались, а теперь соскочили, все равно без смысла. Недовольных нет...
Его борода щекочет мне ухо.
— Ты же скучаешь... Я же вижу. Иначе зачем бы ты стал со мной заговаривать, а?
Вспоминаю вдруг свой сон.
Пятьсот Третьего. Кинозал.
Угриным движением разворачиваюсь, оказываюсь с ним лицом к лицу, хватаю бороду в кулак, рву вниз, пальцем вжимаю ему кадык.
— Послушай-ка, ублюдок, — шиплю я. — Скучаешь, похоже, ты. Своим больным дружкам до посинения можешь простату массировать. А я — нормальный. И еще: у меня в кармане шокер, я тебе сейчас его засуну туда и проверну пару раз, чтобы ты не скучал.
— Эй... Ты что, приятель?!
— Вас, фиолетовых, и так слишком много развелось, если один в давке перенервничает, никто и не заметит.
— Я просто... Думал... Ты сам... Начал... Первый...
— Я начал? Я начал, ублюдок?!
Его лицо начинает походить цветом на его пиджак.
— Что вы делаете?! — голосит какая-то девчонка слева.
— Самооборона, — отвечаю я, отпуская его кадык.
— Шшшивотное... — шипит он, растирая шею.
— И всех вас так надо, — шепчу ему на ухо я. — Передавить.
— Башня «Октаэдр», — доносится из динамика. — Сады Эшера. Приготовьтесь к выходу из вагонов.
Поезд сбавляет скорость, пассажиры складываются гармошкой. Перед тем, как выйти, я лбом бью фиолетового в переносицу. Будет тебе, упырю, горбинка.
Все, теперь я готов.
Выхожу на платформу и посылаю бородатому воздушный поцелуй.
Стекляшка с пучеглазым фиолетовым педиком уносится в черноту. Пусть обращается в полицию, если хочет, его там не только на шокер натянут. МВД и еще пара важных министерств — в кармане у Партии Бессмертия. Партия спасла парламентскую коалицию от развала и теперь может загадывать любое желание. Первое желание было такое: чтобы Бессмертные сделались еще и невидимыми. Абракадабра! — исполнено. Даже в демократическом государстве возможно маленькое волшебство.
Мне плевать, насколько я опоздаю в «Гиперборею». Плевать, кого я там встречу, и кого мне придется придушить. Я вдыхаю полной грудью. Адреналин горячим маслом смочил сведенное судорогой нутро, и меня отпустило. Почти так же полегчало, как если бы меня вырвало.
Когда судьба улыбается тебе, надо улыбаться ей в ответ.
И я улыбаюсь.
— Маршрут до башни «Гиперборея», — прошу я у коммуникатора.
— Вернитесь в хаб, затем перейдите к гейту номер семьдесят один. Следующий поезд в хаб прибудет через девять минут.
Потерянное время. Я стою на месте, но «Гиперборея» продолжает уноситься от меня со скоростью в 412 км\/ч. Эйнштейн чешет репу.
Разглядываю носки своих штурмовых бутс. Стальные мыски, обшитые эрзац-кожей. Кожа ссажена, как колени мальчишки. Толстые подошвы давят податливую траву. Убираю ботинок — и трава поднимается, расправляется. Через мгновение — никакого следа.
Оглядываюсь: забавное место... Сады Эшера? Слышал про них много раз, но никогда тут прежде не бывал.
Под ногами действительно трава, мягкая, сочная, почти как живая — но неистребимая, совершенно нечувствительная к подошвам, не нуждающаяся ни в воде, ни в солнце, и к тому же не пачкающая одежду. Она всем лучше настоящей травы, кроме разве что того, что она ненастоящая.
Но кому это важно?
На траве валяются сотни парочек: болтают, нежатся, читают и смотрят вместе видео, кто-то пускает фрисби. Всем нравится эта трава.
А над головами у нас парят апельсиновые деревья.
Корни их забраны в белые шары-горшки, шероховатые, будто бы вылепленные вручную, и каждое дерево подвешено за свой горшок на нескольких тросиках. Этих деревьев тут тысячи, и они-то как раз взаправдашние. Отлетевшие белые лепестки кружат и опускаются на манекен травы, сладкие апельсины падают в руки девушкам. Деревья летят над головами восторженной публики как цирковые акробаты, и им хорошо без земли: через подвесы к ним подведены трубки с водой и удобрениями, и это искусственное вскармливание куда сытней естественного.
А вместо поддельного неба — одно громадное зеркало. Оно покрывает столько же, сколько на полу покрывает мягкая трава: тысячи и тысячи квадратных метров, целый уровень большого восьмигранного небоскреба.
И в зеркале — перевернутый мир. Аккуратные кроны деревьев, которые висят в пустоте вверх тормашками, падающие вверх апельсины, расхаживающие по потолку смешные мухи-люди, и опять трава — мягкая, зеленая, неотличимая от живой ничем, кроме того, что она неживая. Стены зеркальные тоже — поэтому создается иллюзия того, что сады Эшера покрывают весь мир.
Почему-то в этом странном месте царит непередаваемое спокойствие и благодушие. Ни единого лица, испорченного тревогой, печалью или злобой. Полифония смеха. Благоухающие апельсины в нежной траве.
Поднимаю глаза — вижу себя, маленького, приклеенного ногами к потолку, болтающегося вниз головой, задравшего голову к небесам, но вместо этого уставившегося вниз. В меня летит ярко-желтая фрисби.
Перехватываю.
Подбегает девчонка — некрасивая вроде бы, но при этом удивительно милая. Черные волосы до плеч вьются. Глаза карие, чуть опущенные книзу, веселые и печальные одновременно.
— Прости! Промахнулась.
— Та же история, — отдаю ей тарелку.
— А у тебя что случилось? — она берется за фрисби, но не отнимает ее у меня; несколько секунд мы держимся за тарелку оба.
— Перепутал тубу. Теперь вот девять минут ждать следующую.
— Может, сыграешь с нами?
— Я опаздываю.
— Но до поезда еще ведь девять минут!
— Точно. Ладно.
И вот я, снарядившись на убийство, иду за ней вслед играть во фрисби. Ее друзья — все симпатичные ребята: открытые лица, улыбки честные, в движениях — покой.
— Я Надя, — говорит синеглазая.
— Пьетро, — представляется невысокий паренек с выдающимся носом.
— Джулия, — протягивает руку хрупкая блондинка; камуфляжные штаны с карманами болтаются на худых бедрах, в пупке пирсинг. Жмет крепко.
— Патрик, — говорю я.
Нормальное имя. Человеческое.
— Давайте двое на двое! — говорит Надя. — Патрик, будешь со мной?
Над нашими головами — шероховатые шары-горшки, сплетение почти невидных тросиков, маслянисто-зеленые листвяные шапки, воздух, маслянисто-зеленые листвяные шапки, ниточки тросиков, шероховатые шары-горшки, трава. Сады Эшера — гетто счастливых людей.
Тарелка летит еле-еле, да и ребята эти — явно не спортсмены.
— Ничего себе у тебя скорость, — в Надином голосе восхищение. — Ты чем занимаешься?
— Безработный, — отвечаю я. — Пока что.
— А я дизайнер. Пьетро — художник, мы вместе работаем.
— А Джулия?
— Тебе Джулия понравилась?
— Просто спрашиваю.
— Понравилась? Скажи, ладно тебе!
— Мне ты понравилась.
— Мы здесь каждую неделю играем. Тут классно.
— Тут классно, — соглашаюсь я.
Надя смотрит на меня — сначала на мои губы, потом поднимается выше. Смазанная полуулыбка, поволока на глазах.
— Ты мне тоже... Понравился. Может, ну его, твой поезд? Поехали ко мне?
— Я... Нет. Мне нельзя, — говорю я. — Я опаздываю. Правда.
— Приходи тогда на следующей неделе. Мы обычно по ночам...
Она ничего про меня не знает, но ей все равно. Она не претендует на меня, и не предлагает мне себя. Был бы я обычным человеком, мы просто сошлись бы на несколько минут, а потом рассоединились — и увиделись бы через неделю или никогда. Будь я обычным человеком, не принимавшим обетов, я ничего не требовал бы от женщин, и женщины ничего не требовали бы от меня. Когда-то люди говорили: подарить любовь, продать тело; но ведь от совокупления ничего не убывает. Наши тела вечны, нам не надо рассчитывать, трение не изнашивает их, и нам не надо рассчитывать, на кого истратить ограниченный запас их молодости и красоты.
Это естественный порядок вещей: обычные люди созданы для того, чтобы наслаждаться. Миром, пищей, друг другом. Зачем еще? Чтобы быть счастливыми. А такие, как я, созданы, чтобы оберегать их счастье.
Я назвал Сады Эшера гетто, но это неправда. Кроме подвешенных апельсиновых деревьев, в этом месте нет ничего примечательного. Люди здесь такие же безмятежные, веселые, искренние, как и везде. Ровно такие, каким и положено быть гражданам утопического государства.
Потому что Европа и есть Утопия. Куда более прекрасная и величественная, чем смели воображать Мор и Кампанелла. Просто у любой утопии есть задворки. У Томаса Мора процветание общества было обеспечено работой каторжников — и у товарища Сталина все было налажено точно так же.
Это у меня от моей работы глаз замылился — все время короткими перебежками, все время по задворкам этой утопии, по ее сервисным коридорам, и на фасады давно не обращаю внимания. А они есть, эти фасады, и в желтых уютных окошках улыбающиеся люди обнимаются и чаевничают.
Это моя проблема. Моя, а не их.
— Патрик! Ну бросай же!
У меня в руках — желтая тарелка. Не знаю, сколько длится мой стоп-кадр. Посылаю фрисби блондинке — слишком высоко. Джулия подпрыгивает — с нее чуть не сваливаются портки — ловит и хохочет.
Но тут помещение затапливает слепящий белый свет — словно прорвало плотину, которая удерживала сияние сверхновой. В уши лезет какой-то жуткий механический вой. Тревога?!
— Внимание! Всем отдыхающим срочно собраться у западного выхода! В здании обнаружена бомба!
И тут же откуда-то из зазеркалья вырываются люди в темно-синей полицейской форме — шлемы, жилеты, пистолеты в руках. Выпускают из ящиков какие-то приземистые круглые аппараты вроде домашних уборщиков, те мечутся по траве, фырчат, ищут что-то...
— Всем двигаться к западному выходу! Быстро!
Счастье и покой скомканы и порваны. Вой сирены вздергивает людей за шиворот, пихает их в спины, как кусочки пластилина сминает их в один липкий шар, катит на запад.
Только мне туда не надо. Мне туда нельзя.
Я должен оставаться у своего выхода — восточного. Сюда сейчас подойдет мой поезд!
Надю и ее приятелей закатывает в разноцветный пластилин, прежде чем я успеваю сказать им «Пока!»
— Что случилось?! — требую я у полицейского, который подгоняет толпу.
— К западным воротам! — орет он на меня.
Лицо у него забрызгано потом. Видно: это не учения, ему страшно.
Выдергиваю из ранца маску Аполлона, сую ему в лицо. Удостоверений нам не положено, но маска заменит любую ксиву. Никто, кроме Бессмертного, такую носить не посмеет. И полицейский об этом знает.
— Предупреждение о теракте... Угрозы. Партия Жизни... Эти ублюдки. Сказали, разнесут сады Эшера к чертям... Пожалуйста, к западному выходу... Эвакуация.
— Я на задании. Мне нужно тут дождаться поезда...
— Поезда остановлены, пока мы не найдем бомбу. Пожалуйста... В любую секунду тут может... Вы понимаете?!
Партия Жизни. Перешли от слов к делу. Чего и следовало ожидать.
Эти овчарки в погонах уже почти согнали всех в дальний угол. А если террорист в толпе? Если бомба у него? Что за бред?!
Хочу сказать об этом полицейскому, но затыкаюсь на полуслове. Он меня не послушает, и потом, он все равно ничего не решает. Я тут не мир спасаю, у меня свои дела. Поскромнее.
— Мне нужен транспорт! — я хватаю его за ворот. — Любой!
Вдруг замечаю открытый аэрошлюз, а в проеме — присосавшийся к внешней стене башни полицейский турболет. Оттуда-то они и валят.
Вот он, шанс.
— Маршем! — шепчу я себе.
Отпускаю его и двигаю к аэрошлюзу. По пути натягиваю на себя маску. Меня больше нет; Аполлон за меня. Голова становится легкой, мышцы поют, словно стероидами обколоты. Некоторые считают, что мы носим маски ради анонимности. Чушь. Главное из всего, что они дают — свобода.
Полицаи при виде Аполлона расступаются и как-то вообще скукоживаются. У нас с ними непростые отношения, но сейчас не до церемоний.
— Забудь о смерти!
— Что надо? — навстречу, поднимая забрало шлема, шагает могучий бычара. Старший, наверное.
— Мне необходимо срочно попасть в башню «Гиперборея».
— Отказать, — насупленно отбрехивается он сквозь амбразуру своего шлема. — У нас спецоперация.
— А у меня — поручение замминистра. Из-за вашего бардака все и так на грани срыва.
— Исключено.
Тогда я делаю ход конем — хватаю его за запястье и тычу ему в руку сканером.
— Эй!
Звонит колокольчик.
— Константин Райферт 12T, — определяет сканер, прежде чем Константин Райферт 12Т успевает выйти из ступора. — Беременностей не зарегистрировано.
Бычара наконец отдергивает руку и пятится от меня, бледнея так резко, словно я ему шею взрезал и всю его дурную кровь спустил.
— Послушай, Райферт, — говорю ему я. — Подбрось меня до «Гипербореи», и я забуду твое имя. Продолжай кобениться и на работу завтра можешь не приходить.
— Много о себе думаешь, — рычит он. — Ваши не вечно министрами будут.
— Вечно, — заверяю его я. — Мы же бессмертные.
Он еще молчит и демонстративно скрежещет зубами, но я-то понимаю — это для маскировки, чтобы не было слышно тихого хруста, с которым я переломил ему хребтину.
— Ладно... Туда и обратно.
Рядом к стене пришвартовывается еще один такой же аппарат — рама с четырьмя винтовыми турбинами и капсула с пассажирами. Но вместо полиции в проем шлюза прыгает какая-то телочка с надписью «Пресса», туго натянутой на задранный бюст.
Прячусь внутрь капсулы. Не люблю этих шлюх.
— Да у вас тут шоу, а не спецоперация!
— Общество имеет право знать правду, — чьими-то чужими словами отвечает Райферт.
Я улыбаюсь, но Аполлон меня не выдает.
Райферт тоже втискивается внутрь, дверь пшикает, и турболет отлепляется от башни. Полицай стаскивает шлем со своей круглой потной башки, ставит его на пол. Стрижка «маринз», свинячьи глазки и второй подбородок. Налицо ожирение головного мозга и неконтролируемое деление клеток мышечной ткани.
Он ловит мой взгляд и прочитывает его. Полицейские рефлексы.
— Не смотри на меня так, — говорю я Райферту. — Может, я тебе еще жизнь спас. Сейчас как рванет...
Может, всего через минуту апельсины в траве, желтое фрисби и девушка Надя станут такой же небылью, как тосканские холмы. Из новостей узнаем.
«Октаэдр» отъезжает, словно огромная шахматная ладья, другие фигуры-небоскребы лезут на передний план, задвигая на задний восьмиугольную башню с перевернутыми садами. Турболет, чуть покачиваясь, ныряет в разрывы между столпами. Райферт сам ведет машину.
Воздух пуст. Кроме полиции и неотложки, никому летать не дозволено. Для всех прочих — общественный транспорт: тубы и лифты — и перемещения строго по осям координат. И только для этих засранцев мир существует в настоящем 3D.
— Вы себе тут «Полет валькирий» не ставите треком? — завистливо интересуюсь я.
— Да пошел ты, умник... — огрызается этот дуболом.
— Я бы ставил.
— А я бы тебе... — он дальше бурчит что-то невнятное предположительно в грубую казарменную рифму; я великодушно не уточняю, что он там плетет.
Коммуникатор все еще моргает вызовом. Я опаздываю, но без меня там, похоже, решили не начинать. Я чувствую, что снова нашел потерянный пульт от своей жизни. Все снова под контролем. Все под контролем.
— Гады, — бубнит себе под нос Райферт.
— Это мы сейчас о чем?
— Партия Жизни. Если это правда... Они переходят все границы. И ради чего?!
— Ты что, никогда не видел их агиток? Жизнь неприкосновенна, право на продолжение рода священно, человек без детей — не человек, бла-бла-бла, отмените Закон о Выборе.
— А перенаселение?
— Этих ребят не заботит перенаселение. Им плевать на экономику, на экологию, на энергетику. Мальчикам просто резинки жмут, а девочек от гормонов разносит, вот и вся история. Ребята не хотят думать о будущем. Хорошо, что есть мы. Мы подумаем за них.
— Но теракт?! Жизнь-то неприкосновенна!
— Не удивлюсь, — говорю я. — Они борзеют с каждым днем. Уверен, у них там есть теоретики, которые на раз-два докажут, что ради того, чтобы спасти миллионы человек, необходимо пожертвовать тысчонкой.
— Вот скоты, — он сплевывает.
— Не переживай так. Рано или поздно мы до них доберемся. Этих-то всегда есть, за что брать.
Райферт молчит, сосредоточившись на пилотаже. Потом вдруг мямлит:
— Слушай... Всегда хотел спросить... Как вы их находите? Нарушителей?
Я пожимаю плечами.
— Ты просто веди себя хорошо, и не придется об этом думать.
— Просто интересно, — деланно зевает он.
— Конечно.
Говорю и слышу, как у меня на шее волосы приподнимаются. Охотничий инстинкт. Чую клиента. Но доказательств нет, да и его чучело мне ставить негде.
— Вон она показалась, — Райферт кивает на выступившую из ночного тумана двухкилометровую колонну. — Готовься выметаться.
«Гиперборея» выглядит странно; больше всего она похожа на древний панельный дом, который из-за какой-то генетической болезни растет не переставая уже несколько веков. Снаружи башня облицована чем-то похожим на плитку, и вся поделена на крохотные уровни-этажи — с окнами. И этих этажей в ней, наверное, целая тысяча. Уродливое здание.
Я отстегиваю маску и кладу в ранец. Персей тоже носил голову медузы Горгоны в мешке. Горгоньей головой надо пользоваться дозированно.
— А ты с виду как нормальный человек, — разочарованно произносит эта дубина.
— Это только с виду.
Турболет замедляется; к «Гиперборее» Райферт подходит плавно и пускает машину вдоль гладкой темной стены — ищет док. Пришвартовавшись, он шарит пальцами на клавиатуре, отыскивая какую-то кнопку.
В полумраке салона вспыхивает что-то, и тут же гаснет.
— Это еще что?!
На ветровом стекле возникает мое объемное фото.
Чувствую себя так, будто сел играть с чертом в морской бой. Самое время сказать «Ранил!».
— Какого хера ты делаешь, Райферт?!
— Знакомиться так знакомиться. Ты же не представился... — он скалит зубы. — А сканерами мы тоже пользоваться умеем. Запрос по базе, — командует он.
— Совпадение. Субъект в розыске, — равнодушно констатирует система.
— Что еще за ерунда?!
Ранил.
— Оп! — Райферт довольно усмехается. — Погоди-ка... Может, мы и еще покатаемся. Детали!
— Инцидент в купальнях «Источник». Субъект разыскивается как свидетель и потенциальный виновник происшествия со смертельным исходом. Сообщил неверное имя. Настоящее имя не установлено.
— Оп-оп! — он склабится еще веселей. — И что случилось в купальнях?
— Ничего интересного. Попытался откачать утопленника.
Где в этой проклятой посудине кнопка, открывающая двери?!
— Класс! — теперь он радуется как настоящий мальчишка; улыбка такая, что глаз не видно. — Думаю, придется тебе ответить на пару вопросов.
Жую щеку. Улыбаюсь тоже.
— Давай начну с того, что ты уже задавал. Про то, как мы находим нарушителей.
У него чуть дергается его бульдожья щека. Чик! И все. Почти незаметно. Почти.
— В канализации стоят сенсоры. Гормональные. Как гонадотропинчик засечет, сразу нам сигнал посылает. Знал об этом?
Он качает головой. Смотрит на меня так, будто Гитлера увидел. Чик! Чик!
— Так что скажи своей, чтобы за малым в баночку ходила, — подмигиваю я.
Чик-чик-чик.
Ранил!
Еще пара ходов, и этот четырехпалубный линкор пойдет ко дну.
— Открывай дверь, Константин Райферт двенадцать-тэ. У тебя свои дела, у меня свои. Не трать себя на мелочи. Лети, спасай мир, — я отдаю ему честь.
Он сглатывает: в бычьей шее машинным поршнем прокачивает слюну могучий кадык. Потом дверь открывается. Аэрошлюз распахнут, внутри горит свет.
Я закидываю за плечи мешок и перескакиваю в док. Под ногами у меня мелькает километровая пропасть, но высоты я не боюсь.
Райферт все висит, все смотрит на меня.
— Но вообще чаще всего соседи стучат, — делюсь я на прощание. — А от соседей не уйдешь. Так что по-дружески тебе советую, Райферт: пока мы вас не нашли, делайте аборт.

Перед тем, как выпустить на арену с разъяренными из-за моего опоздания львами, меня еще выдерживают в тесной клетушке адски медленного лифта.
Духотища. От пота мысли склеиваются.
Ничего, говорю я себе, что меня засекли в купальнях. Я в овердрафте, но это ненадолго. Простые правила — для простых людей, так сказал мне господин Шрейер. Одно нарушение кодекса вполне может искупить другое. Минус на минус дает плюс. Все, что от меня требуется — выполнить его поручение. Открутить головы паре мерзавцев. И моя кредитная история сразу резко выправится. Героям во все времена списывали мелкие злоупотребления вроде грабежей и изнасилований, а я всего-то попытался человека спасти. Мне, конечно, урок: нечего было соваться. Заниматься надо тем, что получается лучше всего. Откручивать головы. И не разбрасываться. Рокамора и его баба... У меня уже руки чешутся.
И изнутри все зудит. Будто на свидание собрался.
Я не видел Пятьсот Третьего с самого интерната, а ведь многое из того, что я делал с тех пор, я делал из памяти о нем. Бокс. Вольная борьба. Железо. И еще кое-какие внутренние упражнения.
Я не должен его бояться! С того момента, как мы виделись в последний раз, я подрос и озверел. И все же меня потряхивает: подумать о Пятьсот Третьем — как шокером в харю.
Даже приступ проходит быстрее. Ненависть — отличный антидот к страху.
Дзынь! Приехали.
Снаружи — ресепшен какой-то занюханной фирмешки. Потолок — от силы два с половиной метра, Даниэль рукой бы достал. В потолке — неприятно яркие светильники, напоминающие мне о моей интернатской палате. Стойка секретарши с пафосным и незапоминающимся логотипом: гербы, вензеля, золото — и все напечатано на дешевой наклейке. Журнальный столик с пыльной композитной икебаной, и вокруг него — продавленные утлые диваны для посетителей.
Аншлаг. Ни единого свободного места. На диванчиках, плотно сбившись, сидят ожидающие. Можно было бы порадоваться за фирму — каким ажиотажем пользуются ее неизвестные услуги! — если бы секретарша не лежала под журнальным столиком с какой-то тряпкой во рту. И если бы гости не были похожи друг на друга как близнецы-братья. Друг на друга и на Аполлона Бельведерского.
Черные балахоны, капюшоны накинуты. На ногах — тяжелые бутсы. Руки — исцарапанные, некоторые — в перчатках.
Мне навстречу — девять пар глаз. Взгляды — холодные, колюще-режущие. Двое поднимаются пружинно, руки в карманах. Видимо, в лицо тут меня не знает никто... Кроме одного. Который из них?
Двое начинают заходить с боков. Прежде, чем случился конфуз, произношу:
— Забудь о смерти.
Они застывают, выжидая.
Сую руку в мешок, достаю свою маску, натягиваю. Я не из их команды; а может, они все из разных команд, и собраны здесь только для этой единственной операции. В маске они узнают меня. Но будут ли они мне подчиняться?
— Забудь о смерти, — сливаются в один девять голосов.
Мурашки по коже. И ощущение, что я — важная деталь, которой этому механизму — безотказному, слаженному, смазанному — не хватало. Теперь я со смачным щелчком встал на свое место, и машина заработала, ожила. Может, я зря думал, что Даниэль незаменим. Я — отрубленная голова, которую лишь только поднесли к чужому телу, как она тут же приросла к плечам. Мы все — части большего целого, части некого бесконечно мудрого и бесконечно могучего сверх-организма. И мы все — заменимы. В этом наша сила.
А может, вдруг спрашиваю я себя, это вовсе не то, что я думаю? Не специальное задание от Эриха Шрейера? Может, я все не так понял?
— Доложите, — строго приказываю я, оглядывая свое новое звено.
Если я по адресу, если это — та самая операция, то они ждут командира. Тогда они четко отрапортуют, а не поднимут меня на смех.
А еще это значит, один из них — мой враг. Орган, пораженный злокачественной опухолью. Но кто? Без биопсии не определить.
В курсе ли вообще Пятьсот Третий, чьим заместителем его назначили на этот рейд? Ждал ли он нашего свидания так же, как ждал его я? Поставили ли ему то же условие: или я, или он?
Или для него мое появление тут стало сюрпризом?
А может, он не опознал меня за те полминуты, пока я возился с маской?
Я буду помнить его всю жизнь, но и у него забыть меня вряд ли получится. Я изменился с тех пор, но есть у каждого из нас люди, которых узнаешь и через сто лет, и в любом гриме.
— Прибыли полчаса часа назад, — рокочет какой-то здоровяк. — Рокамора на этом ярусе, в полукилометре отсюда. Без вас не начинали. У нас там наблюдение. Камеры. Эти ничего не подозревают.
Не Пятьсот Третий. Не его рост, не его интонации. Не его аура.
Киваю. По крайней мере, я знаю теперь наверняка, куда и зачем приехал.
— По двое.
— По двое! — ревет здоровяк.
У нас в звене я повторяю команды Эла — потому что я его правая рука. Но Пятьсот Третий, хоть и обещан мне в замы на этот рейд, молчит — вместо него выступает этот громила. Надо бы познакомиться с ними, но времени нет.
Остальные мигом строятся короткой колонной. Я ждал, что Пятьсот Третий выдаст себя своей леностью, нарочитой вальяжностью — каково ему подчиняться пацаненку, который откусил ему ухо? — но никто из звена не выделяется ничем.
— Бегом.
— Бегом!
Распахивается дверь, и мы врываемся на склад, полный затянутых чехлами неведомых товаров. Коммуникатор подстегивает, задавая направление. Еще дверь — удар! — и мы уже в какой-то конторе. С визгом отскакивают девушки в деловых костюмах. Привстает со своего места охранник в форме — шагающий справа от меня громила накладывает ему на лицо свою пятерню в перчатке и швыряет обратно в кресло. Упираемся в директорский кабинет. Вперед, уверенно говорит коммуникатор. Вламываемся, без преамбул выкидываем хозяина — жирного парня с перхотью на плечах — в коридор, за его спиной — портьера. За ней комната отдыха и досуга: раскладной диван, календарь с трехмерными сиськами, стенной шкаф.
— Шкаф.
Его разбирают на части за полторы секунды; позади вешалок с посыпанными перхотью костюмами — дверка. Снова коридорчик, необитаемый и темный, продуваемый вялыми протухшими сквозняками, потолок два метра, Даниэль тут застрял бы. Где-то вдалеке мерцает светодиод — единственный на десятки метров.
Бежим по коридору — синхронно бухая бутсами, адовой многоножкой — пока коммуникатор не приказывает остановиться у кучи хлама. Двери, двери, двери — и все разные, маленькие, большие, металлические, пластиковые, оклеенные чьими-то лицами и политическими стикерами.
Остов велотренажера, сломанные стулья, женский манекен в шляпке. Коммуникатор считает, что мы на месте.
— Тут.
За всем этим барахлом — заставленный строительной плитой лаз. Внутри — прихожая, словно из какого-то древнего видео: кнопка дверного звонка, вешалка, зеркало в резной раме. Один из наших заклеивает глазок на двери черной лентой. Изнутри доносится приглушенный бубнеж. Заранее испытываю к хозяевам этого куба классовую ненависть.
— Штурм, — шепчу я.
Шокеры на изготовку. Включить фонари. Оглядываюсь на своих. Ищу под маской зеленые дьяволовы глаза. Не вижу глаз: в прорезях одни тени, одна пустота. И под моей собственной маской — пустота тоже.
Высаживаем дверь, вихрем — внутрь!
— Забудь о смерти!
— Забудь о смерти!!!
Это не куб, а настоящая квартира. Мы в холле, из которого ведут в разные комнаты еще несколько дверей. На половину помещения — проекция новостного выпуска. На проекции — глазами корреспондента — какая-то пустыня, мертвая растрескавшаяся земля, свора грязных оборванцев на допотопных колесных колымагах. Какие-то красные флаги на копьях...
— Эти люди доведены до отчаянья! — говорит репортер.
Его никто не слушает: в холле пусто. Звено рассыпается по остальным комнатам. Я остаюсь у входа, держу под контролем всю квартиру.
— Нашел!
— Есть!
— Давайте их сюда! — кричу им.
Из сортира выволакивают мужика со спущенными штанами; из спальни — заспанную девушку в пижаме; действительно, заметен живот — в глаза не бросается, но профессионалу видно. Ставят обоих на колени посреди прихожей.
Рокамора не похож на террориста и не похож на свои фото. Говорят, он ловко пользуется силиконовыми накладками и гримом: за четверть часа может соорудить себе новое лицо. Поэтому все системы распознавания на нем срезаются. Шатен, совсем молодой парень, волнистые волосы зачесаны назад, переносица тонкая, крупный, но не тяжелый подбородок. Черт знает, его ли сейчас на нем нос и его ли губы; однако в его чертах — привлекательных, волевых — мне видится что-то неуловимо знакомое. Он словно похож на кого-то, кого я знаю — но не могу понять, на кого, и сходство это призрачное.
У его девчонки — светло-русые волосы, обрезанные по плечи, косая челка, матовая кожа. Совсем худая, и пижама в обтяжку. Глаза светло-светло-карие, тонкие брови вразлет, тушь течет. Первое, что приходит на ум: хрупкость. К такой, наверное, притронуться страшно — как бы не сломать. И она кажется мне — странно, остро, неожиданно — знакомой. Где я ее?..
Наверное, просто дежа-вю. Плевать.
Так.
Теперь их как-то надо будет убить.
— Что происходит?! — возмущается парень, силясь подтянуть брюки. — Это частная собственность! Какое право...
Натурально так возмущается. Актер!
Девчонка просто молчит, совершенно остолбенев, держится руками за свой живот.
— Я вызову полицию! Я вызываю...
Один из наших бьет его наотмашь тыльной стороной ладони по щеке, и Рокамора затыкается, держась за челюсть.
— Имя! — ору я.
— Вольф... Вольфганг Цвибель.
Рокамора? Или коммуникатор завел нас не к тем? Хватаю его за руку, прокусываю сканером кожу. Колокольчик.
— Нет соответствий в базе данных, — говорит сканер обыденным голосом, будто сейчас не происходит нечто из ряда вон.
— Ты кто такой? — спрашиваю я. — Мать твою, тебя в базе ДНК нет! Ты как это сделал?!
— Вольфганг Цвибель, — повторяет парень с достоинством. — Понятия не имею, что там с вашей машинкой, но ко мне это не имеет никакого отношения.
— Ладно! Проверим твою мадемуазель! — я тыркаю сканером девчонку: динь-дилинь!
— Аннели Валлин 21Р, — отзывается прибор. — Беременность не зарегистрирована.
— Гормональный фон, — я ловлю ее глаза, не даю ей спрятать взгляд.
— Хорионический гонадотропин повышен. Прогестерон повышен. Эстроген повышен. Результат положительный. Беременность установлена, — выносит приговор сканер.
Тут нужно бы еще ультразвуком, но его у меня нет. И ни у кого нет.
Девчонка дергается, но ее вдавливают в пол.
По накатанной. Мы действуем, как команда, как одно целое, как идеальный механизм; может, Пятьсот Третьего нет тут? Может, меня просто раззадорили им, зная, что ему я не захочу уступить ничего — даже палаческий колпак?
— Почему ты ничего мне не сказала?! — хрипло ахает Цвибель-Рокамора.
— Я... Я не знала... Я думала... — лепечет она.
— Так! Заканчиваем спектакль! — прикрикиваю я на них. — С таким пузом ты уже месяца три как думаешь! Вы нарушили Закон о Выборе, и уж кому, как не вам, об этом знать. В соответствии с Законом, вам предоставляется выбор, который вы можете сделать только сейчас. Если вы решаете сохранить ребенка, один из вас должен отказаться от бессмертия. Инъекция будет сделана немедленно.
— Вы так говорите, будто мы уже на сто процентов уверены в том, кто отец ребенка, — спокойно замечает Цвибель. — Между тем, это вовсе не так. Это еще требует прояснения.
Девчонка вспыхивает, смотрит на него обиженно, даже зло.
— У нас нет времени на анализы ДНК плода... Зато мы точно знаем, кто его мать, — говорю я. — И если вы отказываетесь от отцовства... Инъектор! — требую я у здоровяка.
Точно по процедуре. Все точно по процедуре. По рельсам.
Одна проблема: все это никак не приближает меня к тому, чтобы Рокамора и его подруга были убиты при сопротивлении. Что я делаю? И чего я не делаю?!
— У нас нет инъектора, — шепчет мне на ухо громила.
— Что значит, нет инъектора?! — мои кишки словно кто-то ножом отскабливает. — Какого черта у вас нет инъектора?! — я толкаю его в дальний угол.
— Закон, между прочим, предусматривает и второй вариант, — Цвибеля ничто не способно вывести из себя; а ведь он — между прочим — стоит перед нами на коленях и без порток — и наглым адвокатским голосом цитирует по памяти. — Закон о Выборе, пункт десять-А. «Если до наступления двадцатой недели зарегистрированной беременности оба родителя плода примут решение об аборте и прервут незарегистрированную беременность в Центре планирования семьи в Брюсселе в присутствии представителей закона, Минздрава и Фаланги, они освобождаются от инъекции акселератора». И даже если инъекция уже сделана, после аборта в Центре назначают терапию, блокирующую акселератор! Это пункт десять-Б, вы должны бы знать!
Девчонка молчит, но вцепляется в живот обеими руками, кусает губы. Невольно соскальзываю на нее взглядом. Почему-то думаю, что она красива, хоть беременность обычно и уродует женщин.
— Просто съездить в Брюссель, сделать аборт и заплатить штраф. И все, инцидент исчерпан.
Вот уж то, чего мне точно сейчас нельзя: исчерпывать инцидент. От замаячившего идиотского хэппи-энда мне нужно каким-то образом провести заблудившегося зайчика к кровавой бане.
— Нет инъектора — значит, нет инъектора. Вся эта канитель всегда у звеньевого, - оправдывается громила. — Уколы, таблетки, вся хрень.
Правда. У нас в звене аптечку держит Эл. Но мне-то никто ее не выдавал. Это, наверное, потому что у нас не вполне обычный рейд, так?
— Ты ведь готова сделать аборт, Аннели? — спрашивает у нее Цвибель.
Она не отвечает. Потом трудно, рывком поднимает подбородок — и так же трудно, саму себя пересиливая — опускает. Кивок.
— Ну вот и все. Там у вас, кажется, для ранних стадий какие-то инъекции?
— А ты, я смотрю, в курсе, а, Цвибель?
Это террорист, говорю себе я. Это не милейший Цвибель, это Хесус Рокамора, всегда в десятке самых разыскиваемых людей Европы, один из столпов Партии Жизни. Это он и его дружки собираются разнести к чертям «Октаэдр» вместе с зеркальными садами, с ребятами — как их там зовут — и вообще... Спровоцируй меня, скотина! Ударь меня! Попытайся сбежать! Не видишь — мне трудно будет душить тебя без повода!
Пнуть его в лицо? Где-то я читал, что на открытые раны, на свежую кровь реагируют не только акулы, но и домашние свиньи: звереют и нападают на хозяев, особенно, если голодны. Я голоден, но...
— Я юрист, — вежливо отзывается эта гнида. — Конечно, я ориентируюсь в законодательстве.
А если это не они? Если сбой? Почему его нет в базе?!
Молчу. Зайчик сбился с маршрута и тычется в стенку. Девчонка всхлипывает, но не плачет. Бессмертные смотрят на меня. Минуты пролетают. Я молчу. Кто-то из ребят начинает шептаться, переминаться с ноги на ногу. Зайчик затихает и садится на землю: дошло, что забрел в тупик, но как из него выбираться, он понятия не имеет.
— Пора кончать их, — вдруг говорит одна из масок. — Время.
— Кто это сказал?
Молчание.
— Кто это сказал?!
Задание секретное. Вряд ли Шрейер приглашал к себе по очереди всех десятерых членов звена, и всех пытался очаровывать. Кроме меня, о том, чем тут все должно кончиться, знает только один человек. Тот, которого прикрепили ко мне тенью. Задача которого — подстраховывать.
— Я сам знаю, ясно?!
— Что это... Что это все значит? — Цвибель принимается зачем-то застегивать брюки. — «Кончать»? Вы понимаете, что вы говорите?!
— Не надо так волноваться, — я похлопываю его по плечу. — Это просто шутка.
Он, вроде, справляется со своими портками.
— Вставай! — я хватаю его подмышки. — Прогуляемся.
— Куда вы его?! — кричит девчонка, пытаясь подняться с колен.
Одна из масок пинает ее ботинком в живот, и она давится своими вопросиками. Это лишнее, говорю я себе. Девчонку в живот — это лишнее.
— Я сам все сделаю! — кричу я маскам. — Не встревайте!
Вывожу его в тот темный сервисный коридор, откуда мы попали в квартиру. Хлопаю входной дверью, которая чудом держится еще на своих петлях после нашего вторжения.
— Вы не можете! Не имеете права!
— К стене! К стене лицом!
— Это зачем? Это не по кодексу! — увещевает меня Цвибель, но послушно утыкается в стену.
Так. Вроде, если в глаза ему не глядеть, как-то попроще.
— Заткнись! Думаешь, я не знаю, кто ты такой?! Кодекс не для таких, как ты!
Он молчит.
Что теперь? Задушить его? Завалить на пол, замком сцепить вокруг его шеи пальцы и давить, давить, пока не сломаю кадык, навалиться на него всей тяжестью тела, чтобы он не выкатился из-под меня, пока будет ерзать, задыхаясь, пока будет в конвульсии сучить ногами?
Смотрю на свои руки.
Размахиваюсь и бью его в ухо. Цвибель заваливается на пол, потом не без труда становится на четвереньки, наконец садится спиной к стене. Попыток сопротивляться он не делает никаких. Сука.
— И что ты про меня знаешь? — наконец говорит он каким-то другим голосом — чужим, усталым.
— Все, Рокамора. Мы нашли тебя.
Он смотрит на меня снизу вверх — изучающе, задумчиво.
— Я хочу сдаться полиции, — спокойно произносит он наконец.
Молчу — секунду, пять, десять.
— Я требую, чтобы вы вызвали сюда полицию!
Качаю головой.
— Прости.
— Я нахожусь в розыске. За мою поимку назначено вознаграждение. Любой, кто сможет меня задержать, обязан...
— Ты что, сам не понимаешь?.. — перебиваю его я.
Он умолкает на полуслове, всматривается в мое лицо, сереет.
— Так... Так это все всерьез? Они решили меня убрать, а?
Ничего не отвечаю.
— Ну и как... Как ты собираешься это делать?
Я и сам не знаю.
— Бред какой... — он качает головой, почему-то улыбается.
И я улыбаюсь тоже.
Новостной диктор за дверью вдруг повышает голос, начинает вещать четко, разборчиво.
— Надежду на перемены у них отняли много веков назад! Но теперь люди поняли, что не могут больше мириться с этим!! На борьбу они поднимаются со знаменем, которое в последний раз развевалось тут четыреста лет назад!!!
Громкость будто с каждым словом нарастает. Какого черта?! Оглохли они там, что ли? Что интересного в этом гребаном репортаже из гребаного третьего мира?
— МЫ ВЕРНЕМСЯ К ПОКАЗУ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ВИДЕО ИЗ РОССИИ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МИНУТ! СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ! — орет ведущий прямо мне в ухо; у тех, кто внутри квартиры, от такого должны барабанные перепонки полопаться. — В САДАХ ЭШЕРА ИЩУТ БОМБУ!
Мне кажется, что в промежутках между его словами до меня доносится еще что-то... Почти неслышный шум какой-то возни... Мяуканье...
— УГРОЗА УНИЧТОЖИТЬ ЗНАМЕНИТЫЕ САДЫ ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ ПОСЕТИТЕЛЯМИ ПОСТУПИЛА ЧАС НАЗАД! визг. К ПОСЛАНИЮ БЫЛ ПРИКРЕПЛЕН ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ «МАНИФЕСТ ЖИЗНИ», ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ВОЗЛОЖИТЬ ВИНУ НА...
Визг. Я ясно слышал визг.
— На козлов отпущения, — усмехается Рокамора.
— НА ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ ГРУППИРОВКУ «ПАРТИЯ ЖИЗНИ»! — заглушает его диктор.
— Заткнись!
— СЕЙЧАС В САДАХ НАХОДЯТСЯ НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК! НАЧАТА ЭВАКУАЦИЯ, НО МНОГИЕ ДО СИХ ПОР НАХОДЯТСЯ В СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ!
— Пожалуйста! — тонкий девчоночий голосок; и еще обрывок всхлипа. — Пожа..
— Ты слышал?! — вскидывается Рокамора.
— ПО ТОЛЬКО ЧТО ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ, ТЕРРОРИСТЫ ТРЕБУЮТ ОТМЕНЫ «ЗАКОНА О ВЫБОРЕ».
Стон. Сдавленный, похожий на мычание. И гогот.
— Что там?! Что происходит?! — Рокамора пытается подняться и тут же ловит подбородком апперкот. — Головорезы! Что вы...
— Сидеть, мразь! Сидеть!!!
Бросаю его, распластанного в нокауте, рву на себя ручку двери, толкаю створку...
Круг черных фигур. В круге — девчонка. Голая, белая.
Поставили раком. Руки — заведены за спину, связаны. Она опрокинута вперед, головой вниз, упирается щекой в пол. Пижама сорвана, брошена, на ней ярко-красные пятна. Зубы впились в солдатский ремень, который пропущен, как удила, через ее распахнутый рот. Теперь она может только мычать. И она мычит — отчаянно; только ничего не разобрать.
— ПЕРЕД ВАМИ — СВЕЖИЕ КАДРЫ С МЕСТА СОБЫТИЙ! ПОЕЗДОВ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ, НЕ ХВАТАЕТ! ОБРАЗОВАЛАСЬ ДАВКА!
Загнанная толпа под нависшими деревьями. На миг мне кажется, что я вижу Джулию, но ее тут же затирают другие перекошенные страхом лица.
— БОМБУ ПОКА ОБНАРУЖИТЬ ТАК И НЕ УДАЛОСЬ! НАШ РЕПОРТЕР РАБОТАЕТ НА МЕСТЕ С РИСКОМ ДЛЯ СВОЕЙ ЖИЗНИ! В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ВСЕ МОЖЕТ КОНЧИТЬСЯ СТРАШНОЙ ТРАГЕДИЕЙ!
Черный круг пульсирует, сжимается вокруг девчонки.
Двое в балахонах сидят перед ней на корточках, держат ее за плечи, крагой затыкают рот. Перекладывают ее лицо с пола себе на колени, заботливо, копошатся в паху... А сзади, заламывая ей руки, почти ложась ей на голую спину, вбивая, заколачивая себя в нее жесткими ударами, дергается над ней, за ней, третья фигура. С каждым толчком рот ее пытается распахнуться еще шире — на разрыв — словно насильник проталкивает, прокачивает через нее насквозь что-то невидимое, но грязное, отвратительное, и она пытается выпустить, исторгнуть это наружу...
Остальные пока просто следят, но кто-то уже дергает себя, готовясь.
— Она так не чувствует ничего! Давай-ка кулаком ее еще пройди!
Насильник, будто ему не хватает ее отклика, поднимает заломленные худые руки-веточки повыше. Его правая кисть перемазана в красном.
Девчонка извивается, как насаженный на крючок червяк.
Маска у него на месте, но капюшон от трудов сбился назад. Делаю шаг вперед.
— Хватит! — приказываю я, но меня не слышат:
— КТО ГОТОВ ПРИНЕСТИ В ЖЕРТВУ ТЫСЯЧИ НЕВИННЫХ РАДИ БЕЗУМНОЙ ИДЕИ?!
Еще шаг. Еще.
Висок. Кудрявые, черные жесткие волосы. Качаются в такт. Под ними... Налитая кровью загогулина рубца, отверстие, клочок мочки... У него нет уха.
Я проваливаюсь в это слуховую дырку как в черную дыру, пролетаю через пространство, через время...
Дыра выплевывает меня в яйцо, из которого нет выхода, в кинозал, в ряд между креслами, в холодное и удавливающее, как жидкий цемент, ощущение того, что вот-вот с тобой случится отвратительное, страшное, непоправимое...
Мне в тот раз удалось уйти, а ей...
Я смотрю ей в глаза... Такой взгляд... Есть каналы, показывающие только архивные видео дикой природы. Некоторых успокаивает. Видел по одному из них, как гепард нагоняет антилоп. Бросается на шею, подминает под себя, заламывает голову вбок, грызет артерии... Оператор-вуайерист приближается к умирающему животному... Фокусируется на глазах... Там — покорность... Так странно это видеть... Потом они гаснут, превращаются в стекляшки...
Она гипнотизирует меня.
Я не могу оторваться от нее. Меня бросает в жар, в ушах бухают огромные японские барабаны, я хочу вмешаться, но не могу сбросить оцепенение; из груди рвется какое-то рычание, клекот... Я не слышу истерически орущего диктора, не вижу, что там на проекции...
Тут она перекатывает на меня зрачок... Не покорность, а мученичество, вот что в нем. Закрывает глаза...
— Прекратить! Немедленно прекратить!!! — ору я.
— МНЕ, КАК И ВСЕМ НАМ, БЫЛО НЕПРОСТО НАЙТИ СВОЕ МЕСТО В ЭТОМ МИРЕ! — признается какая-то баба. — МНЕ, КАК И ВСЕМ ИНОГДА КАЗАЛОСЬ, ЧТО СУДЬБА ЖЕСТОКА К НАМ! ИЛИ ЧТО В МОЕМ СУЩЕСТВОВАНИИ НЕ БЫЛО НИКАКОГО СМЫСЛА! НО ТЕПЕРЬ С ЭТИМ ПОКОНЧЕНО!
Помню. Я все помню. Как не хватало воздуха; как упирался мне в спину его член; как сдал мой мочевой пузырь.
Я не подхожу даже — оказываюсь рядом с ними, вцепляюсь в его курчавые волосы всей пятерней, рву в сторону, отбрасываю его от нее.
— Ты... Ты...
— ВЕДЬ ТЕПЕРЬ У МЕНЯ ЕСТЬ ИЛЛЮМИНАТ! ИЛЛЮМИНАТ — ТАБЛЕТКИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ. РЕЦЕПТА НЕ НУЖНО!
— Выключите это дерьмо!
Кто-то наконец делает тише.
— Какого хххера тут происходит?! — я задыхаюсь — со мной такого с интерната не было. — Вы ссскоты! Какого...
— А что?! Девчонку все равно в расход пускать! Какая разница?! — крысится, поднимаясь с пола, безухий. — Тебе что, жалко?! Не каждый день такой праздник!
— Не сметь! Не сметь!!!
— Лучше бы своим делом занимался... — шипит он. — Куда поползла? Мы с тобой еще не закончили... — он ловит за лодыжку скулящую девчонку. — Подожди, тебе понравится...
— Ты...
— А с тобой мы еще поговорим... — обещает мне эта мразь.
Мне перекрыли воздух и отняли у меня все слова, в меня вкачали черной бешеной крови и через край плеснули адреналина.
Зззззззз.... Зззззз....
— Ты что сделал? — остолбенело спрашивает меня здоровяк, моя правая рука в этом звене. — Ты что сделал, а?!
Этой мрази в шею шокером, и покрепче, и подольше, вот что я сделал. И еще раз.
Пятьсот Третий дрыгается на полу. Маска вся облевана, через прорези видны белки закатившихся глаз. Первый раз за столько лет, когда я снова смотрю ему в глаза — и мне даже жаль, что он не может глядеть на меня в ответ. Пинаю его в живот.
— Я здесь командир, ясно?! Я — звеньевой! Эта сучара мне не подчинялась!
И закачиваю, закачиваю в легкие воздух — грудь работает как меха. Стараюсь надышаться.
Вспоминаю, что бросил снаружи Рокамору со свороченной челюстью.
— Бабу не трогать! Я с ней сам... Ясно?! Сам! Сейчас только...
Рокамора очухался и копошится в тряпье, которым завален лаз в его квартиру. Он вроде даже не обращает на меня внимания, когда я выползаю в коридор.
— Что ты там забыл?..
Он выхватывает из тряпок руку — и я упираюсь в пистолетное дуло. Вот уж чего юристам не положено.
— Что с ней?!
— Спокойно... Ребята немного расшалились, но сейчас все под контролем, — я выставляю вперед ладонь и киваю на пистолет. — Взаправдашний?
— Молчи, — шепчет он мне. — Я сейчас уйду... Если ты еще что-нибудь скажешь, тебе крышка.
Подныриваю под ствол, вцепляюсь в его запястье, выкручиваю — выстрел?! — нет, тишина; потом железяка глухо падает на пол. Отталкиваю Рокамору, подбираю пистолет. Названия нет, номера нет. Выглядит хлипко, как самоделка. А этот имбецил даже с предохранителя его не снял. Браво.
— Подарок тебе, — Рокамора тяжело дышит, поднимаясь с пола. — С пистолетом тебе проще будет...
— Что проще?
— Все проще. Жми на курок... Дурацкое дело нехитрое. Ты же не хотел мараться... На пару шагов отойди только... Чтобы не брызнуло...
— Ничего... — щелкаю предохранителем. — Я, может, запачкаюсь, зато мир чище станет.
— Чище... Ты сам-то в это веришь?.. — он криво улыбается.
— Ты убийца. Вы все убийцы. Твои ублюдки заминировали сады Эшера... Чего ты добиваешься?
— Не смеши! Не будет никакого взрыва! — он отмахивается от меня, как от сумасшедшего. — Хотя бомбу они найдут... Но, конечно, успеют обезвредить.
— Тогда для чего это вам?
— Нам? Это твои хозяева разыгрывают многоходовку! — он теперь сам смеется, зло и через силу.
— Мои хозяева?..
— Неужели ты не понимаешь? Это все из-за меня.
— Конечно!
— Даже если меня шлепнут Бессмертные, все равно будет скандал. Журналисты пронюхают. В новостях покажут сначала мои выступления, а потом меня в мешке. Правозащитники вас раскатают. На выборах вашей партийке придется туговато. Может, даже министерство придется сдать... Проблема. Надо что-то делать.
— Надо, — соглашаюсь я и вытягиваю руку с пистолетом, приставляя дуло к его лбу.
— И вот Партия Жизни вам подыгрывает! За пару часов до того, как со мной перестарались во время рейда, мои товарищи — как знали! — прячут бомбу в этих чудесных садах. Чтобы попасть в один выпуск новостей с сообщением о моей случайной смерти. Потому что, во-первых, тогда получается, что я это как бы заслужил. А во-вторых, чего этих ублюдков вообще жалеть? Как они с нами, так и мы с ними! А?!
— Гребаный параноик...
— «Паранойя!» — вопит марионетка, которой рассказали о кукольном театре!
Открывается дверь, в коридоре появляется здоровяк.
— Все нормально?.. Ого...
— Слушай, — говорю я ему, не опуская ствол. — Забирай остальных и расходитесь. Я тут подчищу все. Это вас не касается. Не знаю, что вам безухий наплел... И да, прихватите эту падаль с собой.
Из-за двери выглядывает еще одна маска.
— Давай мы подстрахуем, — топчется здоровяк.
— Уматывайте, я сказал! — ору я. — Живо! Это мой скальп, ясно?! И никто себе его не присвоит, ни ты, ни эта безухая мразь!
— Какой скальп? Я под такое вообще не подписывался, — ноет за широкой спиной громилы кто-то еще из звена.
— Ну и ладно! — взрывается здоровый. — И пошел ты на хер! Забираем Артуро и валим! Пусть этот психопат сам разгребает тут все!
Они выносят этого своего — и моего — Артуро. Он огромной мясной куклой свисает с их рук, пальцы волокутся по полу, ширинка расстегнута, из-под маски тянется паутинка слюны, воняет кислым.
Рокамора следит за всем молча, не дергается. Дуло прижато к его лбу.
Процессия удаляется, пока не скрывается за углом.
— Зачем? — спрашивает у меня Рокамора.
— Не могу, когда смотрят.
— Слушай... Это правда не мы. Сам подумай... Партия Жизни — и массовое убийство... Это же нас навсегда... Дискредитирует. Я и своим это сколько раз говорил... Партия Жизни — убивает... Это не партия, а оксюморон какой-то... Я бы никогда... — частит он.
— Короче. У меня клаустрофобия. А конура — куб два на два. Понимаешь? Каждый день туда возвращаться... Я в лифтах еле езжу, а мне жить в этом склепе. Вечно. И тут такая возможность. Повышение. Нормальные условия. По-человечески ты должен меня понять!
С кем мы ближе, с кем свободней, с кем искренней — с человеком, с которым только что переспали, или с человеком, который находится в нашей власти, и которого мы готовимся казнить?
— Ты не хочешь меня это делать, да? Ты же нормальный парень! Там, под маской... У тебя же там лицо есть! Ты просто послушай... Они что-то готовят. На нас сейчас охоту открыли... Мы столько лет действовали... Угрожали нам, конечно, но... Сейчас нас просто убирают... — торопится он.
— И я вот в эту свою конуру приду — и без снотворного не могу. Крыша едет. Еще сны эти, конечно... Если не убиться, снова все это вижу. Так что пойми, тут дело даже не в партии твоей... — перебиваю его я.
— А что мы сделали? Что мы вам сделали? Прячем тех, кто не хочет с детьми расставаться? Нарушителей укрываем? Вы нас террористами выставляете, а мы — армия спасения! Тебе этого не понять, конечно... Там дело ведь не в том, что ты свою молодость отдаешь за своего ребенка! В другом дело! В том, что ты умрешь раньше, чем он вырастет! Что ты его одного бросишь... Что тебе с ним прощаться надо будет! Люди этого боятся! — он распаляется, забывается.
— А вы прикрываете этих гребаных трусов! Стерилизовать — и тебя, и всех вас! Мы все равно всегда всех находим! Рано или поздно! И ты знаешь, что происходит с детьми, которых конфискуют! Добренькие вы, да?! Да этим выблядкам вообще лучше не появляться на свет, чем так!
— Не мы это придумали! Это ваши законы! Какая сволочь придумала заставить нас выбирать между своей жизнью и жизнью наших детей?!
— Заткнись!
— Это все твои хозяева! Это они вас калечат, они нас травят! Им спасибо! За детство твое! За то, что у тебя семьи не будет никогда! За то, что я сейчас сдохну! За все!
— Что ты знаешь про мое детство?! Ты ничего не знаешь! Ничего!
— Я не знаю?! Это я не знаю?! — взрывается он.
— Заткнись!!!
Я зажмуриваюсь.
Вжимаю спусковой крючок.
Последнее, что я видел — его глаза. Я вроде бы встречался уже когда-то с ним взглядами... Смотрел уже в эти глаза... Где? Когда?
Сухой щелчок. Глушитель.
Из меня одним толчком выплескивается все — все что набухало, давило, распирало меня изнутри. Будто кончил.
Звука падающего тела не было.
Выстрела не было?
Осечка? Пустой магазин? Не знаю. Не важно.
Я израсходовал всю злость, все силы, весь драйв, которые скопил для убийства. Все их вложил в этот холостой выстрел.
Открываю глаза.
Рокамора стоит передо мной, зажмурившись тоже. На брюках — темное пятно. Мы все отвыкли от смерти — и жертвы, и палачи.
— Осечка, кажется, — говорю ему я. — Открой глаза. Сделай шаг назад.
Он слушается.
— Еще один.
— Зачем?
— Еще.
Он отходит медленно, пятясь спиной, не спуская глаз с пистолета, который все еще смотрит в середину его лба.
Я не могу убить его еще раз. Меня не хватает на это.
— Проваливай.
Рокамора ничего не спрашивает, ни о чем не просит. Не поворачивается ко мне спиной. Думает, что выстрелить ему в спину мне храбрости хватит.
Через минуту он исчезает в темноте. Я с усилием сгибаю затекшую руку, в которой держу пистолет, проверяю магазин: полная обойма. Подношу дуло к виску. Странное чувство. Пугает легкость, с которой можно, оказывается, прервать свое бессмертие. Играю с этим: напрягаю указательный палец. Сдвинуть спусковой крючок на пару миллиметров — и все.
Из квартиры слышится всхлип.
Опускаю руку и, пошатываясь, захожу.
Все вверх дном, ящики почему-то все открыты. На полу — густеющие блестящие пятна. Девчонки нет.
По следу идти недолго. Она сидит в ванной, забралась в душевую кабину с ногами. Пытается отползти от меня, но упирается в стенку. Повсюду красное — на кафеле, на поддоне, на ее руках, в волосах — наверное, пыталась их пригладить. Какие-то жуткие ошметки пропитывают кровью брошенное на пол полотенце...
Выпотрошенный я, выпотрошенная она, распотрошенная квартира. Мы подходим друг другу.
— У м-меня... К-кровь... Я... Я п-потеряла... П-потеряла... Не надо б-больше... Пожалуйста...
— Это не я... — успокаиваю ее дебиловато. — Правда, не я. Я ничего вам не сделаю.
Для нее мы все одинаковые, думаю я отстраненно. Пока мы в масках, мы все одинаковые. Так что в какой-то степени это все-таки я.
Сажусь на пол. Хочу содрать с себя Аполлона, но не решаюсь.
— В-вольф? Он ум-мер?
Все ведь неплохо начиналось. Меня послали сюда убрать опасного террориста и зачистить свидетелей операции, отдали под мою команду звено Бессмертных. Но террорист оказался ноющим интеллигентом, свидетели — ревущей девчонкой, вверенное мне звено — бандой озабоченных садистов, а я сам — размазней и слабаком. Террорист отправился по своим делам, мой дублер-проверяющий пускает слюни в коме, а свидетельница ничего не видела. К тому же у нее выкидыш, так что мне теперь ей даже инъекцию нет оснований делать, не говоря уже о том, чтобы ее пристрелить. Явно не мой день.
— Нет.
— Его з-забрали?
— Я его отпустил.
— Г-где он?
— Не знаю. Ушел.
— Как уш-шел? — она растеряна. — А я? Он не в-вернется за м-мной?
Жму плечами.
Она обнимает колени, ее трясет. Она совсем голая, но, кажется, даже не понимает этого. Волосы спутаны, склеены, свисают багровыми сосульками. Плечи изодраны. Глаза красные. Аннели. Она была красивой девчонкой, пока не попала под каток.
— Вам, наверное, к врачу хорошо бы, — говорю я.
— А тебе не н-надо меня... Разве... В расход?
Качаю головой. Аннели кивает.
— Как т-ты д-думаешь, — спрашивает она. — Он всерьез г-говорил про аб... про аборт?
— Понятия не имею. Это уж ваши с ним отношения.
— Это его ребенок, — зачем-то говорит мне Аннели. — Вольфа.
Я стараюсь не глядеть на кровавую кашу на полотенцах.
— Он террорист. Его не Вольф зовут.
— Он мне говорил, что хочет этого ребенка.
Мочки у нее порваны, сочатся стынущей кровью; там, наверное, были сережки. Острые скулы; не они — ее лицо было бы идеально выверено, выточено на высокоточном молекулярном принтере; не они — оно было бы слишком правильно. Брови тонкие, вразлет. Прикоснуться к нее брови, провести по ней пальцем...
Слезы ползут поверх бурой корки, она размазывает их кулаками.
— Как твое имя?
— Тео, — отвечаю я. — Теодор.
— Можешь уйти, Теодор?
— Тебе надо к врачу.
— Я тут останусь. Он ждет, пока вы все уйдете. Он не вернется за мной, пока ты не уйдешь.
— Да... Да.
Я поднимаюсь, но медлю.
— Слушай... Меня зовут Ян, на самом деле.
— Можешь уйти, Ян?
В коридоре я в первый раз вспоминаю, что здоровяк мне говорил о наблюдении: все подходы к квартире просматриваются. Вокруг понатыкано камер; пока я обсуждал с Рокаморой, размозжить мне ему голову или нет, кто-то пялился на реалити-шоу и жрал поп-корн.
В той детской книжке-игрушке, где надо было провести заблудившегося зайчика через лабиринт, у меня все вышло удачней. Проплутав по всем тупикам и закоулкам, я все же вывел его к домику. Девочка была в восторге. Даже поцеловала меня, но я был в маске и ничего не почувствовал. А потом за ней приехала спецкоманда.
Если камеры тут повсюду, не все ли равно, в какую глядеть?
Я делаю книксен, закидываю маску в ранец и ухожу.
Гасите свет. Представление окончено.

Солнце почти остыло, и к нему можно притронуться ладонью, не боясь обжечься. Ветра не слышно, но он тут: подталкивает коконы висячих кресел туда-сюда, смотрит на них задумчиво.
Теплый воздух обтекает мое лицо.
Дом — огромные окна с выбившимися наружу занавесками, ваниль стен тает во рту у неба — мерно дышит, живой. На мореных досках веранды греется кошка. Перспектива — выпуклости холмов с сидящими на них часовенками, будто груди с пирсингом сосков, темные ложбинки, возбужденные столбики кипарисов — медленно въезжает в ночную синеву.
Фигура, ютящаяся в одном из коконов, невесома; ветру нетрудно качать ее. Хотя второе кресло пусто, у них одна амплитуда. Это девушка — красивая, зацелованная летом, мечтательная. Она читает, подобрав под себя ноги, уютно закутавшись в какую-то историю, на ее губах нечеткая улыбка, словно отражение улыбки в зыбкой воде.
Я узнаю ее.
Русые волосы достают до плеч, челка срезана косо, запястья такие тонкие, что наручников к ним и не подобрать.
Аннели.
Сейчас — свежая, несорванная — она восхитительна.
И она моя. Моя по праву.
Прежде, чем подойти к ней, я обхожу дом вокруг. К крыльцу прислонен маленький велосипед с хромированной рогатиной руля и блестящим звонком. Дверь не заперта. Поднимаюсь на крыльцо, прохожу.
Пол из темных керамогранитных плит, медитативные абстракции на крашеных в шоколад стенах, мебель простая и изящная, каждый предмет будто вычерчен одной линией.
Это снаружи дом составлен из прямых углов, а внутри их нет вовсе. Низкая тахта — округлая, обтянутая темно-горчичным фетром — зовет упасть. Круглый обеденный стол — зеркальное черное стекло, три деревянных стула с кожаными сиденьями. Зеленый чай в прозрачной кружке, похожей на маленький кувшин: в кипятке распустился засушенный экзотический цветок.
Что-то царапает глаз. Останавливаюсь, возвращаюсь...
На стене висит распятие. Крест небольшой, с ладонь размером, из какого-то темного материала, весь несовершенный — кривовато сделанный, поверхность креста и пригвождённой к ней фигурки не гладкая, а будто состоит из тысячи крохотных граней. Будто ее не собирали по молекулам из композита, а вырезали, как в древности, ножом из куска... Дерева? На лбу у фигурки венец, похожий на кусок колючей проволоки — выкрашенный в позолоту. Пошлейшая статуэтка.
Но почему-то я не могу отвести от него глаз; смотрю околдованно, пока в ногу мне что-то не тычется...
Игрушечный робот ездит по какой-то своей траектории, напевая дурацкую песенку. Его машинное лицо заклеено пленкой, на которой нарисована веселая рожица. Робот тычется в полусобранную модель межгалактического «Альбатроса», запинается о разбросанные детали.
Кто запустил его и кто не закончил собирать модельку звездолета?
В углу — поднимающаяся на второй этаж лестница: ступени-платформы крепятся к стене только одним торцом, сбоку кажется, что они висят в пустоте. Сверху долетает бренчанье, «пиу-пиу» потешных выстрелов, смех — высокий, детский.
Смотрю наверх, вслушиваюсь в смех. Мне хочется подняться по лестнице, встретиться с тем, кто играет там сейчас... Но я знаю, что мне нельзя.
Я прохожу холл насквозь и останавливаюсь у окна.
Прислоняюсь лбом к стеклу, вглядываюсь в женский силуэт, маятник на ветру.
Улыбаюсь.
Моя улыбка — отражение ее отраженной улыбки в черном зеркале.
Она не видит меня — слишком увлечена чужой придуманной историей. Закорючки букв ползут сверху вниз по экрану ее читалки, будто осыпающийся песок через колбы стеклянных часов. Возникают из ниоткуда и проваливаются в никуда, а она бредет через эти зыбучие пески, и ей дела нет ни до чего больше.
Аннели не видит меня — и не видит никого другого. Никого из тех, кто сейчас смотрит на нее из укрытия.
Толкаю дверь, ведущую на веранду.
Ветер захлопывает ее за мной нарочито громко — и только теперь она меня замечает. Спускает ноги.
— Аннели? — зову ее я.
Она поджимается.
— Кто вы? — голос дрожит. — Мы знакомы?
— Мы виделись однажды, — я приближаюсь к ней не спеша. — И с тех пор я не мог вас забыть.
— А я вас не помню, — она слезает с кресла, как ребенок с качелей.
— Может быть, это потому что я тогда был в маске? — говорю я.
— Вы и сейчас в маске, — Аннели делает шаг назад; но за ее спиной — ограда, через которую ей не перелезть.
— Что вы здесь делаете? Зачем пришли? — спрашивает она.
— Я соскучился.
На ней удобное милое платьишко — домашнее, неигривое — по колени и по локти. Оно не показывает ничего, но и не надо. Есть такие коленки, которых одних достаточно, чтобы отказаться от всего прочего в мире. Шея — худая, детская какая-то... Артерия выпирает веточкой.
— Я вас боюсь.
— И зря, — улыбаюсь я.
— Где Натаниэль?
— Кто?
— Натаниэль. Мой сын.
— Ваш сын?
В ее зрачках дрожит тревога. Неужели она ничего не понимает?
Аннели глядит через мое плечо на дом. Я оборачиваюсь тоже. Темнеет, но свет в окнах второго этажа все не зажигается. Не слышно больше «пиу-пиу», иссякло смешливое эхо. Второй этаж пуст.
— Его нет.
— Что?.. Что случилось?!.. — она останавливается.
— Он... — тяну время, не знаю, как объяснить ей.
— Говорите! — ее кулаки сжимаются. — Я требую, понятно?! Что с ним случилось?!
— Он не родился.
— Вы... Что за чушь! Кто вы?!
Я вскидываю руки: тихо, тихо.
— У вас произошел выкидыш. На третьем месяце.
— Выкидыш? Как это может быть? Что вы несете?!
— Произошел несчастный случай. Травма. Вы не помните?
— Что я должна помнить?! Замолчи! Натаниэль! Где-ты?!
— Успокойся, Аннели!
— Да кто ты такой?! Натаниэль!
— Тсс...
— Оставь меня! Отпусти!
Но чем злее, чем отчаянней она — тем больше это меня дразнит. Я хватаю ее за волосы, прижимаюсь ртом к ее губам — она кусает мой язык, рот наполняется горячим и соленым, но меня это только подхлестывает.
Волоку ее по траве к веранде, к заброшенному дому.
Десятки глаз, видящие все, следят за нами сквозь прорези на масках, невидимых в навалившейся темноте. Следят неотступно и ждут требовательно. Их взгляды подстегивают меня. Я делаю то, что хотят сделать они все.
Я втаскиваю ее по ступеням наверх, на веранду, как на жертвенник. Толкаю спиной вперед на доски. Не даю отползти, наваливаюсь сверху. Раздергиваю руки в стороны, еле сдерживая себя, ищу застежку на платье, не вытерпливаю, рву его. Ткань податлива. Я окаменел. Давлю на нее. Бугорки мышц под матовой кожей, завернутый пупок, какие-то беспомощные соски.
Она сопротивляется молча, яростно.
— Постой... — шепчу я ей. — Ну?! Я ведь тебя люблю...
Трусики — хлопок, летние. Хочу запустить ей туда руку, но как только отпускаю на секунду ее запястье — оно все умещается в браслете из моих большого и указательного пальца — Аннели впивается ногтями мне в щеку, изворачивается, пытается сбросить меня, выскользнуть...
Щека саднит. Притрагиваюсь: щетина, мигом вспухшие росчерки от ее ногтей... На мне нет маски! Куда делась моя маска? Я вообще надевал ее?
Те, кто наблюдает за нами из темноты, сейчас наверняка смеются над моей неловкостью.
— Так дело не пойдет! — рычу я. — Слышишь?! Так дело не пойдет!
Надо как-то стреножить ее... Обездвижить... Как?!
И тут я вспоминаю, что в ранце у меня завалялись несколько превосходных гвоздей и молоток. Вот и решение.
— Прекрати дергаться! Прекрати! Хватит! Иначе мне придется...
Она не собирается меня слушаться, продолжает выкручиваться, елозит, бормочет что-то жалостно-злое. Рассыпаю гвозди по веранде, один по-плотницки зажимаю во рту.
Улучаю миг и, приставив граненое острие к ее узкой ладошке, заколачиваю с размаху, одновременно пытаясь прорваться в нее...
— Тебе хорошо?.. Хорошо тебе, сучка?! Ааа?!
— Ааа!!!
Она наконец кричит — оглушительно громко. Это не визг, а гортанный вопль — низкий, сиплый, мужской.
Я просыпаюсь от этого страшного, сатанинского ора.
Своего собственного.
— Свет! Свет!
Зажигается потолок. Сажусь в койке.
В штанах стоит колом. Сердце ухает. Подушка — насквозь. Во рту солоно. Подношу ладонь — красное. Стены куба, не давая мне отдышаться, начинают сходиться, норовя растереть мне в порошок.
На столике — початая пачка снотворного. Я купил его, я ведь помню, что его купил! Так какого же...
— Суки! Жлобье!
Я только затем и жру эти гребаные таблетки, чтобы не видеть ничего хотя бы когда сплю. Любил бы я сны — вышла бы солидная экономия. Но если я за что и плачу — так это за гарантию того, что когда я закрою глаза, наступит темнота. И вот эти твари решили урезать мой рацион орфинорма, чтобы что? Чтобы сберечь грошик?
Еле сдерживая бешенство, я принимаюсь сравнивать химический состав на истраченной упаковке снотворного с этикеткой на новой... Все совпадает. Столько же орфинорма, как и обычно.
Они тут ни при чем, наконец смиряюсь я. Дело во мне. Мне больше не хватает стандартной дозировки. Я к ней привык.
Мальчик подрос, пришла пора повысить дозу. Начиная с завтрашнего дня буду пить две пилюльки вместо одной. Или три. Да хоть всю пачку.
А зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня?
Глотаю два шарика.
Последнее, о чем успеваю подумать: то, что я сказал Аннели, прежде чем прибить ее гвоздями к веранде — мое первое в жизни признание в любви.
Когда пищит будильник, я его затыкаю.
Тем, кого с первыми лучами солнца собираются вздернуть, тоже, наверное, просыпаться неохота. В Европе казнь, правда, отменена как частный случай смерти, но сегодняшний день все равно не сулит мне ничего хорошего. Я всерьез думаю, не пропихнуть ли в себя насухо еще пару сонных пилюль и не промотать ли вперед сутки-другие — пока я не потребуюсь отчизне дозареза и за мной не пришлют кого-нибудь.
Но тут я отчего-то начинаю мандражировать, и сон отваливает, оставляя меня в тесной койке одного, взопревшего и злого на себя. Ослушаться приказа — это, все-таки, крайне неуютно. Вчера-то я, идиот, оторвался от земли, обуянный своим идиотским праведным гневом, окрыленный своим идиотским великодушием, да еще и был под адреналином. Сегодня от всех этих злоупотреблений у меня похмелье.
Так и вижу золотые врата в мир избранных, с лязгом захлопывающиеся прямо перед моим носом. Над моей головой смыкаются грозовые облака, навсегда закрывая от меня волшебные летучие острова; выдернутый Шрейером из забвения, я буду обратно в забвение и заброшен...
И тут я вспоминаю о том, что сделал с Пятьсот Третьим.
Нет. Такого они не мне спустят. Поднять руку на брата...
Ничего, что европейские суды слишком гуманны. У Бессмертных есть своя инквизиция, свои трибуналы. Медиа трубят о нашей безнаказанности, но это все чушь. Их наказания против наших — как отцовский ремень против дыбы. Просто от человеческих законов у нас прививка, а от нашего Кодекса иммунитета нет ни у кого.
И все же... Все же я рад, что мне не пришлось убивать ее.
Аннели.
Коммуникатор пиликает: вызов.
Вот и они.
На всю стену разворачивается картина — незнакомый мне хлыщ в переливающемся костюме. Хлыщ глядит на меня строго, но мне не страшно. Это не из наших — наши как педики не наряжаются — а больше я никого не боюсь.
— Я помощник сенатора Шрейера, — говорит переливающийся.
Сколько у него этих помощников? Киваю выжидающе. Сенатор не забыл про меня, оказывается.
— Господин Шрейер хотел бы пригласить вас на ужин сегодня. Вы сможете быть?
— Я себе не принадлежу, — отвечаю я.
— Значит, будете, — соглашается он. — Башня «Цеппелин», ресторан «Дас Альте Фахверкхаус».
Такое название с ходу не запомнишь, и после того, как он отключается, мне приходится выспрашивать у терминала названия всех ресторанов в «Цеппелине». Ничего, так даже лучше. Отвлекает.
Впрочем, совсем отвлечься не удается: пока я провожу свои изыскания, через весь экран бежит строка: «Молния! Мощности бомбы, которую полиция обезвредила в Садах Эшера, хватило бы для уничтожения всей башни «Октаэдр»».
Отвлекает от мыслей о том, зачем меня вызывает Шрейер. О том, почему на этот раз он выбрал ресторан — публичное место. И о том, не заберут ли меня на трибунал до того, как я успею поужинать.
До вечера я в гимназиуме.
Бег, бокс, что угодно, лишь бы держать голову пустой. И рядом со мной — целая армия людей, которым тоже хочется выкачать из мозгов все мысли и заместить их горячей свежей кровью. Двадцать тысяч беговых дорожек, три гектара силовых тренажеров, тысяча теннисных кортов, пятьдесят футбольных стадионов, миллион тренированных тел. И такие есть, наверное, в каждой третьей башне.
Вакцина сделала нас вечно юными, но юность еще не означает силу и красоту; сила воздается тем, кто ее тратит, красота — это нескончаемая война с собственным уродством, любое перемирие в которой означает поражение.
Быть ожиревшим, быть чахлым, запаршиветь и покрыться прыщами, горбиться или косолапить — позорно и омерзительно. Отношение к тем, кто запускает себя — как к прокаженным. Отвратительней и постыднее — только старость.
Человек создал себя прекрасным внешне, совершенным физически. Мы должны быть достойны вечности. Когда-то, говорят, красота была отклонением и привлекала всеобщее внимание; что ж, теперь она — норма. Хуже от этого мир точно не стал.
Гимназиумы — не просто развлечение.
Они помогают нам оставаться людьми.
Занимаю свою место — пять тысяч трехсотое — на беговых дорожках. Тренажеры, хоть и стоят подряд, а развернуты лицом к стене, все снабжены проекционными очками с шумоподавляющими наушниками. Получается удобно: каждый в своем мирке, никому не тесно, и, хотя все бегут в стену, каждый попадает в страну своих грез.
Надеваю очки и я.
Топ-стори — опять из России; там, кажется, начинается серьезная заварушка. Камера нацеливается на мертвеца. Здорово: у кого-то дела идут еще хуже, чем у меня. Сначала хочу переключиться на что-нибудь повеселей, но смерть завораживает. Оставляю новости. Надо уже разобраться, что там за дела у них.
Репортаж — в стиле «своими глазами», как сейчас модно. Якобы зритель — участник событий. Все снято так, будто я лично за каким-то чертом поперся в эти гиблые земли, а бородатый корреспондент — мой проводник, который запанибрата вводит меня в курс. Мы с ним сидим за столом, сколоченным из грубых досок, в крошечной комнатенке, стены которой из какого-то странного материала — бурые, неровные. В мятой железной посудине посреди стола дымится ядовитая баланда, и по глаза заросшие варвары хлебают ее ложками прямо оттуда в хитром иерархическом порядке. На меня они косятся недобро, но в рассказ репортера не встревают.
«Помнишь, наверное, что в России население от смерти никогда не вакцинировали, да? Странно даже, учитывая, что вакцину изобрели именно тут. Сейчас об этом редко вспоминают. В Европу и Панамерику русские ее продавали, а у себя почему-то внедрять не стали. Объявили, что народ к этому не готов, дескать, последствия и побочные эффекты непонятны, все-таки генная инженерия, и сначала нужно проверить на добровольцах. Добровольцев тоже взяли не всех. Кого именно привили, держали в тайне. Опыты на людях — история непростая. Этика... Публика сначала интересовалась, но потом к этой истории охладела. Говорили, что эксперимент как-то не так пошел, и что на населении применять вакцину еще рано...»
И вдруг: офицерский ремень, пропущенный через разорванный рот. Искусанные в кровь губы. Выпученные глаза. Взгляд антилопы — полный ужаса и покорности. Заведенные за спину руки. Белая кожа ягодиц, ярко-красные полосы от хапавших ее пальцев. Черная фигура, которая будто приросла к белой тонкой плоти, рвет ее толчками, помогает себе ее болью, задирая заломленные назад руки все выше и выше. Суетливые, дерганые, звериные движения. Трясучка. Хрип. Крик.
Делаю громче, чтобы заглушить ее крик — точно так же, как вчера делал громче тот, кто ее насиловал. Голос с экрана забивает мои мысли.
«...К этому времени Россия была уже закрытой страной, так называемый «национальный выход в офлайн» уже произошел, а в отношении новостей с Запада работал так называемый «моральный фильтр». Все, что власти считали «аморальным», в России никто не узнавал. То, что в Европе людей уже вовсю прививают, например... И то, что прививка от старости дает потрясающие результаты — тоже. Российский эксперимент на добровольцах, наконец сообщили медиа, закончился трагедией».
Снаружи что-то ухает, стол подпрыгивает, и с низких перекрытий прямо в посуду с варевом сыпется пыль. Варвары вскакивают со своих мест, хватаются за тусклые зазубренные сабли, один открывает в потолке люк — внутрь хлещет свет. Репортер щурится, чешет неопрятную бороду, достает из зарослей что-то живое, давит его ногтем. Он и сам выглядит, как один из этих дикарей. Эффект присутствия есть. Этому человеку хочется верить.
Тот, что выглядывал, машет рукой и возвращается за стол. Бородач оборачивается ко мне и продолжает.
«Страна экспортировала вакцину в огромных количествах, но русские продолжали стареть и гибнуть. Почти все. Лет через двадцать некоторые стали подмечать, что политическая и финансовая элита России — узкий круг, несколько тысяч человек — не только не умирают, но и не проявляют никаких признаков нормальных возрастных изменений... Президент, правительство, так называемые «олигархи», верховные чины армии и спецслужб... Очевидцы утверждали, что эти люди, наоборот, молодеют. В народе поползли слухи, что жертвы эксперимента по вакцинации, имена которых были строго засекречены, оказались вовсе не жертвами. Якобы опыт по омоложению российская власть героически поставила на себе. Государственные медиа немедленно опровергли эти сплетни, народу был предъявлен постаревший президент — но только на экране. На публике вживую он больше не появлялся, как и все его ближнее окружение. Вообще, прямые контакты с населением были сведены к минимуму. Правители перестали покидать Кремль — крепость в центре Москвы. Хотя формально главой государства являлся президент, во всех его обращениях к гражданам России стала использоваться коллективная форма — «мы», без уточнения того, кто именно входит в число принимающих решения. В народе эту группировку прозвали «Большим Змеем». И этот «Большой Змей» находится у власти в стране уже несколько столетий».
Один из варваров, услышав знакомое слово, сует мне в нос обрывок флага: символическое изображение дракона, пожирающего свой хвост. Видимо, захваченный в бою вражеский штандарт. Бородач плюет на дракона, швыряет его на пол и топчет, изрыгая на своем корявом наречии ужасные проклятия, состоящие сплошь из «р», «ш» и «ч». Репортер сочувственно смотрит на дикаря, давая ему высказаться, потом снова поворачивается к объективу.
«Сегодня средняя продолжительность жизни в России — тридцать два года. Но эти люди убеждены, что страной до сих пор управляют те же лидеры, что и четыреста лет назад», — заключает он.
Занимательно.
Нет, правда, занимательно. Мне кажется, я начинаю подсаживаться на русские хроники, как на сериал. Завтра, если попаду в спортзал, опять врублю этот трэш.
До самого конца занятий я больше не думаю об Аннели; а главное, не думаю о том, почему я о ней думаю.
Башня «Цеппелин», архитекторы которой вдохновлялись формами, как это ни удивительно, цеппелина, больше похожа на ткнувшуюся носом в землю древнюю авиабомбу за миг до взрыва.
Она не слишком высока, не больше километра, но — монохромная, аскетичная, суровая чугунной тевтонской суровостью и серьезная непробиваемой германской серьезностью — кажется центром тяжести если и не мира, то уж точно — всей округи. Где-то внизу, говорят, распластался старый Берлин, который башня «Цеппелин» вот-вот сокрушит, а на одном из огромных декоративных стабилизаторов в самом верху находится ресторан «Das Alte Fachwerkhaus».
Лифт тут ультра-современный, просторный. Стена в нем одна сплошная: кабина круглая, и стена эта, разумеется, проекционная. Пока я лечу вверх с ускорением 2g, лифт пытается убедить меня, что я нахожусь в белой гипсовой беседке посреди летнего парка. Очень мило, спасибо.
У самого выхода меня встречает хостесс в платье для ролевых игр на баварскую тему. Ее декольте, до того бравое, что напоминает поднос, на который выложено само немецкое гостеприимство, должно завораживать. Но перед моими глазами стоит свисающий с рук Бессмертных человек без одного уха. Тонкая ниточка слюны из паралитически распахнутого рта... Ну и черт с ним, решаю я наконец. Пусть меня сейчас за это хоть распнут, оно того стоило.
Сверив мое имя со списком резерваций (О, у нас тут очередь на полтора года вперед!) декольте уплывает, маня меня за собой, по стеклянному туннелю, где стены и потолок сделаны из облачной ваты, к укрытому куполом старинному домику в традиционном стиле: белые стены, мореные балки крест-накрест, покатая черепичная крыша. Не стой этот домишко на самом краю километровой пропасти, не было бы в нем ничего особенного.
Внутри фахверкхауса — безудержное веселье. Кто-то горланит песни, стуча по тяжелым дубовым столам (по крайней мере, я именно так себе их всегда по историческим романам представлял) литровыми пивными кружками, кто-то, завалив собутыльника за барную стойку, чистит ему морду. Лавируя между длинными скамьями и столами, официант в допотопном костюме — век двадцатый, навскидку — несет зажаренного порося, и какой-то упитанный господин ползет за ним на четвереньках. Поросенок — если это не муляж, отпечатанный на объемном принтере, конечно — должен стоить, как моя месячная аренда. Спокойней думать, что это муляж.
Зачем я тут? Чтобы молить господина Шрейера о прощении, пока он будет обсасывать поросячьи уши? Или сыграть дрессированного медведя на цепи, чтобы развлечь его заскучавших компаньонов?
Я, в общем, готов ко всему.
Меня ведут через этот кавардак в приватные комнаты. Дверь причмокивает у меня за спиной, и я оказываюсь прямо перед ним.
Полумрак. Уютный кабинет, небольшой стол. Кожаные кресла, настоящие свечи. Портреты каких-то напыщенных пуделей в сюртуках, широченные золотые рамы. Наверное, один из них, брыластый — Бах. Словом, классика.
Три стены в обоях с классическим рисунком, а четвертая — прозрачная, и сквозь нее виден общий зал. Эрих Шрейер смотрит на нее так, словно наблюдает бал привидений или историческое видео, ни единого из героев которого давно нет в живых. Напротив сидит Эллен. Оба молчат. Больше внутри никого нет.
Я в замешательстве.
— А, Ян, — он приходит в себя.
Осторожно сажусь сбоку. Эллен улыбается мне, как старому знакомому.
Думаю — начать ли мне оправдываться первым, или подождать, пока он предъявит мне обвинения?
— Тут хорошее мясо, — говорит мне Шрейер. — И пиво, разумеется.
— Последняя вечеря? — не удерживаюсь я.
— Странно, что ты так свободно оперируешь христианскими клише, — он растягивает губы. — Для человека твоего возраста. Тянешься к богу?
Я качаю головой и улыбаюсь. Если бы я и тянулся к старику, то только для того, чтобы врезать ему как следует. Но бог — голограмма, по нему не попасть.
— Когда-то похожий ресторанчик был в старом Берлине, — Шрейер смотрит сквозь стену. — Рядом с Хакеше Маркт. «Цум воль» назывался. «На здоровье». Мы там всегда отмечали день рождения моего отца. Он непременно заказывал риндербратен, говяжью отбивную, и картофельный салат. Всегда одно и то же. Простой человек. Настоящий... А пиво у них было свое собственное. Черт знает когда это все... Середина двадцать первого века.
Мне казалось, я владею своей мимикой: если что, всегда могу прикрыться фальш-улыбкой; но Шрейер разоблачает ее немедленно.
— Ну да, — усмехается он. — Выходит, мне уже хорошо за триста. Я ведь, так сказать, один из первопроходцев.
Он притрагивается к своему лицу — лицу тридцатилетнего, пышущего здоровьем мужчины. Никакого обмана: той матрешке, которая снаружи, действительно тридцать.
— Но так и не скажешь, а?
Скребется официант. Шрейер просит риндербратен и картофельный салат. Я копирую его. Эллен заказывает бокал красного и какой-то десерт.
— Отец мой руководил в свое время одной из передовых лабораторий. Занимался именно продлением жизни и преодолением смерти. Заразил меня своей страстью... Но мне для науки никогда не хватало усидчивости. Бизнес, политика — что, впрочем, одно и то же — вот это мне давалось всегда. Отцу не хватало средств на исследования... Многие считали его идеи бредовыми. Я вливал в его лабораторию все, что у меня было.
Приносят огромные пивные кружки под пенными шапками, Эллен вручают ее вино. Шрейер не притрагивается ни к чему.
— Он клялся, что находится в шаге от открытия, и сначала ему верили. Его снимали, про него писали, он был знаменитостью. Но годы шли, а истина ему все не давалась. Сначала его принялись высмеивать, потом стали забывать. Но такие фанатики, как он, работают не за славу и не за деньги. Когда ему исполнилось восемьдесят, он вовсю уминал мясо в «Цум Воль» и уверял мою мать, что до решающего прорыва осталась всего пара лет.
Эллен делает глоток — одна, не дожидаясь нас, Шрейер не обращает на нее внимания. Пена на его кружке уже опала.
— Мать умерла через год. И тогда же я прекратил его финансировать.
Я ерзаю на стуле. Не то, чтобы я не привык исповедовать людей — когда у тебя в руках инъектор, многие торопятся вывернуть свою душу наизнанку. Но когда перед тобой обнажается демиург, чувствуешь какую-то неловкость.
— Он принял мое решение очень достойно. Не клянчил ничего, не проклял меня, даже не прекратил со мной разговаривать. Просто поблагодарил за все годы, что я его поддерживал, закрыл лабораторию и уволил людей. Перетащил самое необходимое в опустевшую квартиру и продолжил работу там. Это превратилось в его личный крестовый поход. Он пытался обогнать свою смерть. Руки не слушались его, голова соображала все хуже, в последние годы он не вставал с кресла-каталки. Пару раз я срывался на него, кричал, что он испортил жизнь и себе, и матери. Моя память убеждает меня, что я сохранял благородство и никогда не попрекал его деньгами, но, в конце концов, мне триста с лишним лет, а память всегда старается усыпить совесть.
Вносят отбивную и картофельный салат. Он не притрагивается к еде; риндербратен дымится, остывая. Шрейер смотрит в зал, и вправду видит там призраков. Барабанит пальцами по столу.
— У меня была уважительная причина: наша компания покупала давнего конкурента, на счету был каждый грош. Я и тогда спрашивал себя: ну а что, если ты все-таки поверишь ему? Если продолжишь оплачивать все счета его лаборатории? Вдруг он успеет сделать этот последний рывок — и... И не умереть? Обессмертить себя — и заодно всех нас? Но я уже не верил в него. Хотел бы верить — и не мог себя заставить.
Шрейер вздыхает. Из зала доносится смех, словно ротвейлеры лают.
— Он умер, когда ему было восемьдесят шесть. В день своей смерти звонил мне и божился, что находится в шаге от открытия. Русские получили Нобелевскую премию за свои опыты через два года. В их решениях не было ничего общего с идеями моего отца. Я потом отдавал отцовские работы на экспертизу. Мне сказали, что он шел по тупиковому пути. Так что, выходит, я был прав, отказав ему в деньгах. Отец все равно не успел бы... Не смог бы.
Он улыбается, стряхивая с себя оцепенение. Поднимает кружку — пена уже осела.
— У него сегодня день рождения. Ты не против выпить за него?
Я пожимаю плечами, мы чокаемся. Делаю глоток. Кислятина.
— Вкус почти такой же... — закрывает глаза Шрейер. — Не совсем, и все же...
Эллен просит у сунувшегося официанта повторить бокал. Шрейер отхлебывает свое пиво маленькими глотками — долго, не останавливаясь, постепенно осушая огромную кружку, со странным выражением на лице — словно напиток не приносит ему ни малейшего наслаждения, словно он должен допить его до конца, во что бы то ни стало. Последняя четверть дается ему с откровенным трудом, но он не отставляет кружки, пока не осушает ее. Потом, побледневший, он сидит еще молча, глядя на ошметки пены на дне. Меня не покидает ощущение, что я присутствую при каком-то странном ритуале.
— Этот вкус — самый близкий из всего, что мне пришлось перепробовать. Тот ресторанчик, «Цум Воль», сгинул двести лет назад вместе с пивоварней. Там, где он был, теперь находится одна из опор башни «Прогресс». А это все... — он оглаживает дубовый стол, дотрагивается до свечи. — Подделка. Знаешь, как бывает? Увидишь сон про себя маленького. Поддашься ему, соберешься и поедешь. Возвращаешься взрослым человеком в дом, где провел детство, а там давно чужие люди. Все устроили по-своему, стены перекрасили, и живут там свою жизнь. И получается, что вернуться в тот дом нельзя. Только во сне увидеть. Понимаешь?
— Нет, — я улыбаюсь, с трудом проглатывая ком, вставший у меня в горле.
Чтобы протолкнуть его, отрезаю себе кусок мяса. Оно уже остыло. На мой вкус, жестко и суховато. Та говядина, которую я иногда ем, обычно тает во рту. А эту отбивную приходится жевать, словно она и вправду раньше была мышцами животного, а не бултыхалась в питательных ваннах на каком-нибудь мясокомбинате. Черт, неужели она настоящая?
— Ах... Ну да. Прости. И... Тут так же. Вроде бы похоже, но... — он принимается пилить холодный риндербратен ножом; железо визжит по фарфору. Подносит увядшее мясо ко рту, жует. — Но нет. И тем не менее, мне тут нравится. Трудно представить себе более абсурдное место для старого фахверкхауса, чем крыша километровой башни, а? Это с одной стороны. А с другой... С другой как будто бы... Как будто бы этот дурацкий ресторан — на небесах. Как будто бы я пришел в гости к отцу. На праздник.
Он сам усмехается своей глупости, отхлебывает пива.
— Я... Я не очень понимаю, почему... Зачем вы меня... — глядя в тарелку, выдавливаю я. — Сегодня.
— Зачем я позвал чужого человека на день рождения своего отца? — кивает мне Шрейер, механическими движениями измельчая отбивную.
— Да.
Он кладет приборы. Эллен смотрит на меня внимательно. На стекле опустевшего винного бокала — красная печать ее губ.
— Я прихожу сюда каждый год с тех пор, как нашел это место. Каждый год одно и то же: риндербратен, картофельный салат, пиво. Да, Эллен? Это — тот самый день, когда я напоминаю себе, что потерял веру в дело своего отца. Напоминаю себе, что называл его выжившим из ума чудаком и что стал считать вечную молодость — фантастикой. Триста с лишним лет, как он умер, а я все отмечаю. Он был из последнего поколения, которому пришлось состариться и умереть, разве не глупо? Появись он на свет на двадцать лет позже — и мог бы сидеть тут, с нами.
— Я уверен, что...
— Дай закончить. Неважно, что он ошибался в деталях, что работа, которой он отдал всю свою короткую жизнь, яйца выеденного не стоила. Важно то, что он верил в нее. Вопреки всему. И передал веру мне... Хоть я и отрекался от него. Я бы хотел поговорить с ним... И я пытаюсь. Раз в год. Отец, говорю я ему... Ты был прав в главном. Это оказалось возможно. Ты видел будущее. Ты знал, что люди станут бессмертными. Ты сам не дожил до бессмертия всего пару лет... А он молчит. Не слышит.
— Вряд ли вы должны корить себя за это, ведь...
— Эллен... Ты не могла бы нас оставить на минуту? Мне надо кое-что сказать Яну.
Она встает — золотое платье струится, волосы рассыпаются по обнаженным плечам, зеленые глаза потемнели от вина — и закрывает за собой дверь. Шрейер не смотрит на меня. Он молчит, я терпеливо жду, перебирая про себя самые невероятные версии того, почему он решил приблизить меня.
— Ты слабак, — скрежещет Шрейер.
— Что? — пиво попадает мне в дыхательное горло.
— Никчемный слабак. Я жалею, что доверился тебе.
— Вы о задании? Я понимаю, что...
— Этот человек хочет отнять у нас бессмертие. Какими бы словами он ни прикрывался, что бы ни лгал в свое оправдание. Хочет нашей смерти. Хочет отнять величайшее из достижений науки... Или ввергнуть мир в хаос. Он заморочил тебе голову. Оболгал нас.
— Я пытался его...
— Я видел запись с камер. Ты просто отпустил его. И ты оставил свидетеля.
— У меня не было оснований... У нее случился выкидыш...
— Представления не имею, сколько мы теперь будем искать Рокамору. Ты отбросил нас на десять лет назад.
— Он ведь не мог далеко уйти...
— Однако его нигде нет! Этот дьявол даже свою девчонку не пытался увидеть, хотя она так и сидит в их квартире.
— Мне он показался просто нытиком.
— Он не боевик! Он идеолог. Он именно дьявол, соблазнитель, понимаешь ты это? Он просто смял твою волю, превратил тебя в свою куклу!
— Звено вышло из-под контроля. Его подругу изнасиловали! — говорю я, теперь понимая, что это ровным счетом ничего не оправдывает.
— От меня требуют наказать тебя.
— Требуют? Кто? Кто такие «они»?
— Но я хочу дать тебе еще один шанс. Ты должен довести дело до конца.
— Найти Рокамору?
— Им теперь занимаются профессионалы. А ты хотя бы... прибери за собой. Избавься от бабы. И живей, пока она не пришла в себя и не заговорила с журналистами.
— Я?
— Иначе мне не объяснить нашим, почему ты все еще не под трибуналом.
— Но...
— А некоторые будут предлагать и более жесткие меры.
— Я понимаю. И...
— Возможно, я совершил ошибку, доверив это тебе. Но моя задача сейчас — состроить хорошую мину и заверить всех, что это была просто осечка.
— Это и была просто осечка!
— Ну и прекрасно. Не беспокойся о счете, я заплачу.
Разговор окончен. Мертвецы в пуделиных париках глядят на меня брезгливо. Для Шрейера я уже исчез, комната опустела. Он задумчиво изучает свою тарелку: от риндербратена осталась только пара жил. Видимо, это все же была настоящая корова, говорю я себе в отупении. В обычной говядине жил нет. Зачем производить то, что потом будет выброшено?
— И как я ее убью? — спрашиваю я.
Он смотрит на меня так, будто я влез без спросу в его счастливый сон о детстве.
— Мне откуда знать?
Оставляю недопитое пиво и ухожу.
Солнце уже зашло за дальние башни, высветило их контуры алым неоном и отключилось; помост, на котором расположился старый фахверкхаус, кажется палубой авианосца, которого Великим потопом забросило на вершину горы Арарат. Белый двухэтажный дом, перепоясанный портупеей коричневых балок, сидит на самом краю обрыва. Окна — театр теней — светятся желтым. На фоне в предзакатном сизом смоге густыми тенями проступают неохватные столпы мироздания, могучие башни когда-то немецких компаний, давно позабывших свою национальность в гастроэнтерологических перипетиях корпоративной истории.
— Ян? — окликают меня.
Эллен стоит у входа в стеклянный туннель, ведущий к лифтам. В руках у нее тонкая черная сигарета в мундштуке. Дым от нее поднимается тоже черный. Запах странный, не табачный, сладкий.
Вот уж неудачный момент. Но мне ее не миновать: Эллен преградила единственный путь к отступлению.
— Вы уже уходите?
— Дела.
— Надеюсь, вы полюбили риндербратен, — она затягивается; черный дым струится из ее ноздрей. — Мне вот никак не удается.
— Вы похожи на огнедышащего дракона, — говорю я, думая о своем.
— Не бойтесь, — отвечает она, накалывая меня золотой вилочкой и вытаскивая из моей скорлупы, как вытаскивают, чтобы съесть, виноградных улиток.
— Пусть благородные рыцари в сияющих доспехах вас боятся. Мне-то что? — я реагирую, и она тут же прокручивает вилочку, не давая мне с нее соскользнуть.
— Вы не из моей сказки?
— Я вообще не из сказки.
— Ну да... Вы же работаете в какой-то антиутопии, так? — Эллен размыкает губы, ее улыбка источает дым. — Я бы хотела увидеть вас еще раз, — черное облако обволакивает ее нагие плечи, как манто. — Вам случается пить кофе?
— Уверен, вашему мужу эта идея понравится.
— Может быть, и понравится. Я у него узнаю.
Эллен протягивает мне руку и касается своим коммуникатором — золотым кружевом с красными камнями — моего резинового браслета. Тонкий звон. Контакт.
— И что же... Мне можно вас тревожить? — мне вдруг становится трудно думать о разговоре со Шрейером.
— Неужели вы так и будете всегда спрашивать разрешения?
Она вытряхивает мундштук и уходит, не прощаясь.
Обрубок сигареты еще тлеет, и черный дух торопится убежать из него, прежде чем уголек жизни погаснет в том навсегда.

Несколько секунд я сидел, парализованный неожиданностью и необъяснимостью происходящего, вслушиваясь в наступившую после грохота пронзительную тишину и убеждая себя, что стука не было, или, по крайней мере, стучались не ко мне, а к соседям.
Три новых раздельных, чётких удара, обрушившихся на мою - именно мою - дверь, вывели меня из прострации. Укрыв листы испанского дневника в ворохе машинописных страниц, я заставил себя подняться на ноги и сделать первый нетвёрдый шаг вперёд. Путь к входной двери дался мне нелегко: настоянный на страхе, воздух в моей квартире стал плотным, как вода, не пускал и отталкивал меня назад.
Оказавшись наконец у выхода, прежде чем посмотреть в глазок, я прижался ухом к двери и замер. Мне было отлично слышно деловитое шуршание электрического счётчика над головой, булькание капель, падающих из крана в залитую водой кастрюлю в кухонной раковине, лай и вой собак где-то далеко на улице... Но из-за двери не доносилось ни звука: никто не разговаривал, не переминался с ноги на ногу, не прокашливался, готовясь объясниться с хозяином квартиры по поводу неурочного визита. Надеясь услышать хотя бы чужое дыхание, я затаил своё собственное и опустил веки...
...И тут же отпрянул, оглушённый. Очередные три удара стоявший в коридоре нанес, казалось, точно в то место, к которому я прижимался ухом.
- Кто там? - голос подвёл меня, поскользнулся и сорвался в истерический визг.
Не меньше минуты я прождал ответа. В голову лезли мысли о том, что если я загляну в дверной глазок, через него в меня могут выстрелить, как поступают наёмные убийцы в кино. Глупость, казалось бы, невероятная, но предупреждение, проступающее сквозь кровавое пятно на последнем листе перевода, готовило меня именно к такого рода сюрпризам.
Собаки во дворе завыли громче и на этот раз как-то особенно тоскливо. Теперь я уже сказал бы, что они находятся не так и далеко от моего подъезда. Странно: бродячих псов у нас во дворе раньше не было, а кому взбредёт в голову гулять со своей собакой посреди ночи? И потом, разве на прогулке с хозяином хоть один пёс станет выть? Никогда о таком не слышал... Я был готов думать о чём угодно, лишь бы не вспоминать, что сижу на корточках под собственной дверью, в то время как снаружи меня кто-то ждёт.
Помогла мне не отвага, а стыд. Стыд за нелепость своего положения, за то, что я вынужден играть по чужим и навязанным мне правилам, за то, что другие участники этой неведомой игры заставили меня позабыть о том, что всё это - не всерьёз, розыгрыш. Неужели я так и буду ползать по паркету, прячась от своих страхов как пятилетний мальчишка?
В пять лет со мной приключилась любопытная история. Родители оставили меня дома одного, как они делали довольно часто - в детстве я был спокойным, независимым и при этом предсказуемым, а моя самодостаточность не то чтобы граничила с аутизмом, но вполне избавляла мать и отца от этических сомнений и нормальной в случае других детей тревоги. Мальчик ведёт себя совсем как взрослый, шалить не станет, будет тихонько играть в конструктор или читать книжку - сущий ангел; не то, что соседский. По поводу незнакомых взрослых, которые могут звонить в дверь, я был чётко проинструктирован. Если в дверном глазке был чужой человек, открывать запрещалось. Милиционеры, пожарные, водопроводчики, - как бы они ни выглядели и что бы ни говорили - нельзя даже было спрашивать, кто там, и никогда - заговаривать с посторонними на улице и отвечать на их вопросы. Меня убедили, что этот простой кодекс полностью оградит меня от любых опасностей, а на самый крайний случай оставался телефон в родительской комнате, по которому можно было набрать написанный прямо на нём номер районного отделения милиции. Сделать это мне так и не представилось случая.
Однако в тот раз, о котором я рассказываю, произошло нечто непредвиденное. Уже начинало темнеть, и я, кажется, пошёл на кухню, чтобы сделать себе бутерброд.
Этот звук раздался из соседней комнаты - дверь в неё была приотворена, но не широко, так что увидеть из коридора то, что творилось внутри, я не мог. Звук был громкий и отчётливый; перепутать его с чем-либо было невозможно. Единственное, что могло бы заставить меня задуматься - это именно его чрезмерная громкость. Однако объяснение можно найти всему.
Так или иначе, в соседней комнате, где, разумеется, никого не было и не могло быть, кто-то тяжело дышал.
Историями о привидениях я никогда не увлекался, хотя в шесть лет уже довольно бегло читал: заботясь о моём воспитании, родители подкладывали мне вполне материалистические и жизнеутверждающие книги, вроде сказок Джанни Родари и Кристиана Пино. Только выросши и просмотрев любимую в детстве книжку сказок, я не без удивления и некоторого ехидства открыл, что Кристиан Пино был председателем французской Компартии. Пусть его перевод на русский и объяснялся соображениями интернациональной дружбы и прочей конъюнктуры, но сказки председатель писал совершенно волшебные - во всех смыслах. Однако руководящий пост не мог не накладывать на сказочника определённых обязательств: призраков, ведьм и прочих глупостей в его произведениях не было. Впрочем, и без них обходилось прекрасно. То же и с Родари, Алексеем Толстым, Степаном Писаховым и Туве Янссон. Весь этот перечень доброй детской литературы, прошедшей суровый отбор редакторов Детлита, я привожу здесь только для одного: чтобы пояснить, насколько я был не готов к встрече с привидениями.
Меня натаскивали на оборону квартиры от угрозы, исходящей извне. Дверь мои родители изображали если и не непреодолимой, то уж точно - вполне осязаемой и реальной преградой на пути гипотетических грабителей. Я таким положением был вполне удовлетворён и о существовании других возможностей даже не задумывался.
Представить себе, что в наш дом кто-то проник, минуя входную дверь, я не сумел: о фантомах я почти ничего не знал и при этом был полностью уверен, что никто из знакомых мне людей в квартире находиться не может. В итоге, усевшись на полу в прихожей и, так и не отважившись приоткрыть пошире дверь в комнату, я заревел от ужаса. Когда в промежутках между долгими воплями я затихал, чтобы набрать в грудь воздуха, из комнаты явственно слышалось человеческое дыхание.
За десять минут, проведённые на ковролине в прихожей, я примирился с тем, что в мире есть место сверхъестественным явлениям, и навсегда расстался с ощущением покоя и уверенности в собственной безопасности. И ещё научился задавать себе и другим вопросы, даже когда знал, что вместо ответа меня удостоят в лучшем случае недоумённым взглядом. А потом, за следующие пять минут - преодолевать свой страх, перешагивать через инстинкт самосохранения и, наконец, смеяться над собой.
Когда, обливаясь слезами, я встал с пола и, ещё всхлипывая, толкнул изо всех сил дверь, то увидел, что каким-то образом открылось окно; короткие порывы ветра, рвавшегося внутрь и лавировавшего между отворёнными ставнями и мебелью, создавали тот странный шум, который я принял за человеческое дыхание. Окно я тут же запер, дверь в комнату, наоборот, распахнул и припёр стулом, чтобы она больше не закрывалась, а потом включил по всей квартире свет. На этом экзорцистский ритуал завершился.
Так состоялось моё первое знакомство с демонами. Три десятка лет спустя они вернулись, и что же? Я снова уселся на пол, готовясь расплакаться!
Ноги спружинили сами, и, забыв о предосторожности и о подстерегающих меня с той стороны убийцах со снабжёнными глушителями пистолетами, приникнув к глазку, я повторил «Кто там?!». Как и прежде, отвечать он мне не стал.
Видно было довольно скверно: лампочка на площадке перед моей дверью перегорела. Оставалась, правда, еще одна - лестничным пролётом выше, но и та - ватт на сорок. Чтобы как следует рассмотреть жуткого визитёра, мне пришлось притушить освещение в коридоре. Сделал я это из какого-то противного, липкого любопытства, с каким люди смотрят фильмы ужасов или наблюдают за казнью других людей. Здравый смысл подсказывал совсем иное: скорее запереть дверь на все оставшиеся замки, собачку, забаррикадироваться, вызвать милицию! Вместо этого я повернул выключатель в прихожей и в сгустившемся мраке принялся жадно изучать очертания фигуры, неподвижно стоявшей на лестничной клетке в паре шагов от моей двери.
Она была ненормально огромная, больше двух метров ростом, отчего так и подмывало успокоить себя: это понарошку, это просто какой-то шутник завернулся в плащ и залез на табурет... Но по-настоящему меня испугали плечи - непомерно широкие, делающие мутный силуэт в глазке чуть ли не квадратным, как у каких-нибудь персонажей в американских мультфильмах. Вот именно, что в мультфильмах: отсутствие привычных глазу человеческих пропорций не позволяло верить в подлинность, реальность этой фигуры. Во мне крепла уверенность в том, что я сплю или брежу.
Несмотря на выступающий над плечами широкий бугор, который, по видимости, должен был быть головой, все очертания вкупе решительно не производили впечатления человеческой фигуры. Даже не окажись головы на месте, мой гость не мог бы стать ещё страшнее. Разглядеть его силуэт лучше мешало слабое освещение и быстро запотевающий от волнения глазок, однако и того, что я мог видеть, было вполне достаточно, чтобы сделать единственно верный вывод: на лестничной клетке меня ждало создание, которому решительно не было места в том, что мы называем «действительностью». Выражение «не от мира сего» приобретало для меня новый, нехороший смысл.
Удивительно, но во мне имелась некая подсознательная готовность к такой встрече. Начиная с определённого момента я чувствовал, что реальность вот-вот может прогнуться и исказиться, как лицо посетителя в комнате смеха (никогда не находил ничего смешного в этих неприятных заведениях) - настолько необычен был попавший в мои руки документ и всё, связанное с ним. Как бы поточнее выразиться? Всерьёз посвятив свою жизнь изучению НЛО, начинаешь не только верить в пришельцев, но даже обижаться на них за то, что именно тебя они обходят стороной.
Когда мои расширившиеся зрачки смогли зачерпнуть достаточно света, чтобы присмотреться к нему повнимательнее, я начал различать некоторые детали: оно, кажется, действительно было одето в безразмерный тёмный плащ, а огромная голова была тяжело опущена на грудь, - чтобы я не видел лица? Или его отсутствия?
Оно стояло абсолютно неподвижно, не издавая ни малейшего звука, словно было не живым существом, а механизмом, выполнившим часть своей программы и замершим до новых приказаний.
Может, и вправду, чья-то глупая шутка? Как-никак, скоро Новый год, люди уже празднуют. Нет ли у нас какой-нибудь народной традиции пугать людей до полусмерти бездарными розыгрышами под праздник? Что-то было связано с Сочельником, вроде бы, когда там этот чёртов Сочельник? Скрутили из проволоки каркас, накинули брезент, постучали в дверь - а сами сидят на лестнице и стараются придушить смех. В этой штуковине на лестничной клетке нет ровным счётом ничего такого, дураку ясно, что она неодушевлённая. Вот выйду наружу и задам им трёпку!
Я так расхрабрился, что, и в правду взявшись за дверную ручку, потянул её вниз. Излишне уточнять, что не будь замок заперт, куражиться я бы не стал. Дверь я закрываю всегда, как только вхожу в дом, доведённым до автоматизма движением: два поворота влево, потом щелчок - фиксатор уходит наверх; на всё не требуется и секунды. Случалось, конечно, изредка забываться, вынося ведро или спускаясь к почтовому ящику за газетами, но уж сегодня я точно заперся. Ведь правда?
Как только ручка описала дугу до конца, язычок спрятался, и дверь под тяжестью моего тела медленно подалась вперёд...
...Давно собирался смазать петли - от пыли и ржавчины они безбожно скрипели, наждаком проходясь по слуховым нервам всякий раз, когда я открывал дверь недостаточно быстро. Но подсолнечное масло в петли заливать нельзя, так будет только хуже, - кто-то мне об этом авторитетно рассказывал, а машинное надо было ещё специально разыскивать; в результате, вместо того, чтобы решить вопрос кардинально, я научился чуть приподнимать дверь и отворять её выверенным молниеносным броском, которому мог бы позавидовать любой мангуст. Зато скрежет был не таким мучительным.
Будь петли смазаны, я так и застрял бы в этом гипнотическом полусне, и, конечно, осознал бы случившееся слишком поздно, когда сгустившийся за дверью кошмар скользнул бы уже беззвучно в мой дом, и вышло бы так, что я сам пустил его внутрь. Но протяжный надрывный скрип петель отрезвил меня.
В те доли секунды, когда, спохватившись, я уже перестал толкать дверь вперёд, но ещё не успел потянуть её на себя, я ясно ощутил, как с другой стороны за ручку мягко, но властно взялось оно... петли испуганно умолкли, но створка упрямо продолжила движение, открываясь...
Чтобы захлопнуть ее, мне пришлось упереться в пол и что было сил дёрнуть обеими руками, - тяжесть была неимоверная, словно я, как силач из книги рекордов Гиннеса, тянул на себя гружёный железнодорожный вагон. Язычок лязгнул и встал на место.
Не давая ему опомниться, я тут же закрепил успех - в полсекунды закрыл один замок, сняв предохранитель, спустил пружину второго, протянул собачку, потом громыхнул выдвижным засовом и только тогда перевёл дыхание. Прижался к глазку - тёмная махина стояла точно там же, где и прежде, не сдвинувшись со своего места ни на сантиметр.
Оглушённый и завороженный, я старался обуздать скачущее галопом сердце, вцепившись в отполированный набалдашник на дверном засове, всё ещё упираясь ногами в пол и не отрывая взгляда от фигуры на лестнице. Обдумать творившееся со мной совсем не было времени: как раз в тот момент, когда я думал отлучиться на кухню за мясным ножом, оно сделало шаг вперёд.
Одного этого шага оказалось довольно, чтобы понять, как глупо и наивно было надеяться на рациональное объяснение происходящего. Движение далось созданию тяжело: оно медленно оторвало от пола ногу (нижняя часть его тела оставалась для меня невидимой, зато верхняя, почти целиком укладывавшуюся в обзорное поле глазка, перекосилась, левая сторона с какой-то тектонической неспешностью и монументальностью вздыбилась, а потом приблизилась к глазку. Затем с таким же усилием чудище (ничто не могло бы теперь убедить меня в том, что передо мной человек) передвинуло вперёд и другую половину своего колоссального тела. Самым жутким показалось мне совершенное, невозможное беззвучие, с которым оно перемещалось. Подобравшись поближе к двери, тёмный силуэт заполнил собой всё видимое пространство. Меня буквально отбросило назад; сам я предпочёл тогда списать это неосознанное движение на инстинкт самосохранения, однако позже, анализируя свои ощущения, понял, что оно было окружено полем ужаса, отталкивающим от него всё живое... словно некий дьявольский магнит наоборот. И тут же раздался стук - точно так же, как и раньше: три неспешных тяжких удара.
Горло пересохло, и сглотнуть никак не удавалось. Игра явно зашла слишком далеко; но главное - ход перешёл к другим участникам, о существовании которых я раньше догадывался, но упрямо отказывался в него верить.
По счастью, телефон у меня стоит на столике в прихожей, значит, я мог набирать номер, не отходя далеко от двери. Десять секунд на то, чтобы метнуться на кухню за ножом (как будто он сможет меня спасти!) и, вернувшись, наскоро обшарить все замки - да, вроде всё заперто... Потом, осторожно отходя спиной вперёд, не поворачиваясь затылком к входной двери, дотянуться до телефона. Ступать как можно тише - скрип паркета не должен заглушить ни малейшего шороха, который может донестись с той стороны. Теперь остаётся только набрать нужный номер.
Гудок в трубке был сипловатый и чуть приглушённый. Арбатская телефонная станция, наверное, оставалась последним оплотом сопротивления старых, аналоговых узлов - все остальные уже пали под неудержимым напором современных коммуникационных технологий. Качество связи было весьма сомнительным: даже голос соседа из квартиры двумя этажами выше звучал из моей трубки так слабо, будто ему пришлось добираться сюда из Западного полушария по проложенному по дну океана трансатлантическому кабелю. Случалось, на станции что-то барахлило, и тогда меня соединяли совсем не с теми абонентами; бывало и так, что в шведском телефонном оборудовании начала прошлого века, установленном на нашем узле, замыкало неведомые контакты, и в мой разговор неожиданно вклинивались ещё два посторонних человека.
Не помню уже, когда мне приходилось звонить в милицию, но за последние десять лет такого точно не случалось ни разу. Я не имел ни малейшего представления, сколько надо ждать, пока на другом конце провода некий кинематографический мужественный оперуполномоченный с волевым подбородком скажет «Вас слушают?». Поэтому, набрав сакральное «02» и напряжённо выслушав пять долгих гудков, после которых трубку всё ещё никто не снял, я встревожился.
Шесть... десять... семнадцать... двадцать пять... На тридцать четвёртом гудке в мою дверь снова постучали - так сильно, что в ответ в кухонном буфете задребезжала посуда. Я попробовал дозвониться до пожарных и неотложки - безрезультатно. Казалось, в этом мире я остался один на один с чудовищным посланником из чьих-то ночных кошмаров, осадившим мою квартиру и терпеливо ожидающим моей капитуляции.
Трубка так и пролежала на столике всю ночь, через равные промежутки времени испуская тонкий и неуверенный писк. Продрожав от страха и усталости ещё два часа, я в конце концов не выдержал и забылся пустым чёрным сном. Когда я очнулся, на улице уже стоял день. На лестничной клетке никого не было; но я успокоился, только пронаблюдав за ней в глазок минут десять и увидев спускающуюся вприпрыжку соседскую девочку.
Я подошёл к столику, повесил трубку, но затем из простого любопытства перенабрал «02». Не знаю уж, что я хотел себе этим доказать. Уже через два гудка в динамике что-то мягко щёлкнуло и низкий мужской голос произнёс:
- Милиция. Вас слушают?
Что можно сказать в таком случае человеку в форме? Всю ночь у меня под дверью торчал голем, скорее приезжайте? Несмотря на предупреждения, я продолжил читать манускрипт пятисолетней давности, и теперь тёмные силы пытаются заставить меня прекратить это делать, защитите меня от них? Поколебавшись несколько секунд, но так ничего и не сказав, я отключился. Потом отпер все замки и вышел наружу.
На площадке не было никаких следов существа, которое я накануне видел в дверной глазок. Сквозь заиндевевшее окно посреди лестничного пролёта внутрь пробивались солнечные лучи, на улице стояла великолепная погода. Снизу долетали радостные детские голоса, кабина лифта беспокойно сновала между этажами, то и дело хлопала дверь подъезда. Вчерашние страхи вдруг показались мне смешными. Перенервничал? Заснул за столом, а потом в лунатическом сне прибрёл в прихожую? На всякий случай я вышел на середину площадки и осмотрелся.
Обернулся назад и замер. На дерматиновой обивке моей железной входной двери было что-то написано. Аккуратно прикрыв её, я недоверчиво уставился на чёрные буквы, выведенные, кажется, сажей. Надпись была сделана на испанском - вроде без ошибок, но мне всё же не удавалось отделаться от ощущения, что эти слова стали первым, что их автор написал в своей жизни, так странно и коряво были вырисованы буквы.
«el conocimiento es una condena»
...я мог перевести и без словаря...
«Знание это приговор».
- Совсем уже распоясались! - возмущённо пропыхтел кто-то за моей спиной.
Я обернулся, поспешно пытаясь смахнуть с лица меловой след испуга. Уперев руки в бока, у лифта стояла моя бескомпромиссная соседка из квартиры напротив. Второй подбородок, скрывая шею, уходил прямо в расстёгнутый ворот нутриевой шубы. Под надвинутой на лоб круглой меховой шапкой мрачно горели глубоко посаженные глаза.
Что же, она будет мне сейчас делать внушение за поздних гостей, которые спьяну барабанили в мою дверь ночь напролёт и перебудили весь дом?
- Вы посмотрите, что делают, а? Вот и Леониду Аркадьевичу с седьмого тоже такое написали, да ещё и похлеще, про дочку его. Это, конечно, не из наших. Здесь вечно в подъезде чёрт-те кто ошивается, на втором этаже всегда окурков набросано! В следующий раз увижу - участкового вызову, с меня хватит! Зачем их учат английскому этому, чтобы они двери людям портили?! - ткнув в адресованное мне зловещее послание своим пухлым пальцем, она чудесным образом превратила его в заурядную хулиганскую выходку.
- Это испанский, - сообщил я ей доверительно, но наткнулся на колючий подозрительный взгляд.
- А вы тоже хороши, - отрезала соседка.
- Серафима Антоновна... А вы вчера ночью ничего не слышали? Такой грохот был на лестнице, несколько раз просыпался!
Я тоже нахмурился, всем своим видом показывая, что твёрдо стою на стороне добропорядочных жильцов, и настроен решительно против хулиганов, алкоголиков с пятого и семейки этажом выше, которая постоянно дрелит стены после десяти вечера. Не говоря уже о големах.
- Стучали, стучали! Это на пятый этаж милиция приходила, так они там дебоширили. Мне Светлана Сергеевна рассказывала. Пора их уже выселять, пьяниц этих. Надо начать подписи собирать, - она гневно затрясла подбородком, от чего жир на её лице и шее всколыхнулся и пошёл мелкой рябью.
Серафима Антоновна принялась расстёгивать пуговицы на шубе, явно рассчитывая на продолжение беседы о наболевшем, но я проворно ретировался за дверь.
- Полностью солидарен. Вы извините, мне работать надо, заказчик ждёт.
- А что же, похабщину эту вы не станете оттирать? И так весь подъезд загажен! Заходите, я вам моющего средства дам, у вас нету ведь наверняка, у холостого?
И, когда моя дверь уже захлопнулась, сквозь неё приглушённо донеслось «Хам...».
«Знание это приговор». Куда уж яснее... Не просто какое-нибудь абстрактное знание, а именно то, о котором мы все подумали - писавший недаром использовал определённый артикль. То самое, за которым и была отправлена экспедиция в непроходимые заросли нынешнего мексиканского штата Кампече. То, которое так оберегали Хуан Начи Коком и полукровка Эрнан Гонсалес. То самое знание, ради сохранения и передачи которого живым людям, быть может, и писался дневник.
Вполне вероятно, ночной визит был последним предупреждением; рассчитывать и дальше на снисхождение я не мог: та судьба, что постигла моего предшественника, которому в руки попала первая глава, и страшная гибель сотрудника бюро переводов подтверждали это.
Однако со мной творилось нечто необыкновенное. Вместо того, чтобы заставить меня отказаться от этого дела, вселить в меня ужас перед продолжением работы, надпись на моей двери разжигала во мне любопытство. Когда я вспоминал о ней, слово «condena» было не в фокусе, мысленный взор притягивало только чарующее «conocimiento».
Для чего же я проделал с отрядом конкистадоров весь его непростой и запутанный путь сквозь сельву и арбатские переулки, сквозь опасности, болезни и искушения? Неужели я готов бросить всё и повернуть назад в тот самый миг, когда впереди показалась прямая дорога? Если испытания и угрозы не испугали испанцев, потерявших девять из десяти своих товарищей, хватит ли мне храбрости, чтобы следовать за ними дальше хотя бы в воображаемые дебри? Обещанное вознаграждение за отвагу и настойчивость спустя пятьсот лет было всё тем же. Как, впрочем, и ставка, но о ней я старался не думать.
Продолжение дневника просто обязано было скрывать что-то невообразимое. Секрет изготовления золота из свинца? Рецепт средства, бесконечно продлевающего жизнь? Предсказания будущего? Разгадка тайны гибели цивилизации майя? Учитывая то, какие церберы охраняли эти сведения, на меньшее я был уже не согласен.
Возможно, об этом догадывался и его автор, не излагавший на бумаге всех своих мыслей. Стал ли бы он с таким упорством вести свой отряд вперёд, несмотря на тяжёлые потери? Если такое знание стоило того, чтобы хладнокровно пожертвовать ради него сорока человеческими жизнями, имел ли я право, оказавшись на пороге обладаниям им, смалодушничать и не поставить на кон всего одну - пусть и свою собственную?
Закрыв дверь на оба замка и собачку, я наспех умылся и, не завтракая, стал перепечатывать перевод начисто.
Работал я так быстро, что справился со всем за пару часов, хотя из-за спешки несколько раз и ошибался клавишей, после чего мне приходилось вытаскивать лист, замазывать опечатку, бешено дуть на неё, чтобы быстрее подсохло, а потом, с точностью часовщика проворачивая ручку на каретке, пристраивать бумагу - не дай бог, буквы будут не на том уровне.
Меня подстёгивало не только желание узнать наконец, что же находилось в пункте назначения испанской экспедиции, но и проступающая сквозь него боязнь не успеть этого сделать. Теперь я работал словно наперегонки со смутной тенью за моей дверью. Она всё ещё отставала от меня на полкорпуса, и если я приду к финишу первым, смогу хотя бы несколько секунд посмотреть на главный приз, пусть в конечном итоге всё же и проиграю.
Уже в четыре часа всё было готово. Как обычно, я набирал под копирку. Спрятав свой экземпляр перевода среди простынь и пододеяльников в бельевом шкафу, я запахнул пальто, глянул в глазок, толкнул дверь и нажал кнопку вызова лифта. Если всё сложится удачно, ещё успею вернуться домой засветло.
Идея ехать на троллейбусе была не моя - не иначе, как мне её шепнул в ухо бес, пристроившийся на левом плече. Только накануне я так замечательно быстро доехал до бюро на метро - ума не приложу, почему на этот раз мне пришло в голову добираться на наземном транспорте. Садовое Кольцо было непривычно пустым, а троллейбус как раз подъезжал к остановке, и припаянное к мозжечку каждого москвича крошечное устройство, мгновенно вычисляющее скорейший путь по городу с учётом погоды, пробок и последних новостей, заставило меня вскочить на подножку, потеснив недовольного мужичка в собачьей шапке.
Пожалел я об этом уже через пять минут, когда троллейбус намертво встал между Краснопресненской и Маяковской. Водитель извинился тоном, не терпящим возражений, и заявил, что по техническим причинам поездка временно прерывается. Для нетерпеливых он открыл переднюю дверь, но тут же грозно пообещал исправить положение за десять минут.
Выйти не решился почти никто: идти до ближайшей станции метро по обледенелому тротуару было никак не меньше тех десяти минут, за которые водитель взялся устранить неполадку. В итоге на починку ушло более получаса, но большинство пассажиров так и остались сидеть на своих местах: когда уже прождал 15 минут, начинаешь бояться, что троллейбус тронется, как только ты сойдёшь.
Дыханием я проплавил в инее, покрывавшем стекло, круглое смотровое отверстие. Видно через него было немного: кусок дома и недавно установленный в специально разбитом скверике ещё один памятник героям Великой Отечественной войны. В этом году, приурочив к очередной, в общем-то, не слишком круглой годовщине Победы, их установили по всей стране как-то особенно много, включая статую совершенно невероятных размеров и весьма сомнительных художественных достоинств. Весь город был заклеен афишами концертов песен военных лет, кинотеатры показывали ретроспективы чёрно-белых фильмов о партизанах и взятии Рейхстага, модные фотоцентры с помпой открывали выставки вроде «Лица героев» или «Те, кто...».
Для меня возвращение Победы из архивов на улицы оставалось загадкой. Двадцать лет назад, насколько я помнил, этому событию уделялось куда меньшее внимание. Людей, которые в ту войну не то что сами с оружием в руках ступали по полям смерти, сочащимся кровью, которой пролито столько, что всю её впитать земля не может, но хотя бы помнили вой сирен тревоги, рвущий пелену чуткого детского сна, в живых оставалось всё меньше и меньше. Но почему-то именно сейчас праздник Победы нежданно обрёл ту значимость, которая была у него, наверное, только в первые десять-пятнадцать лет после окончания войны.
Может быть, это было последнее «спасибо» последним живым ветеранам. А может, государство черпало вдохновение в их подретушированных историками подвигах и надеялось, что граждане последуют его примеру. И Победа стала вдруг занимать всё больше места в сознании народа. Мне это казалось противоестественным: накрашенные старухи плохо смотрятся на пропагандистских плакатах. Семидесятилетней Марлен Дитрих нельзя доверять соблазнение нации.
История - это медуза Горгона; под её пристальным взглядом всё обмирает и окаменевает. Живые лица, способные когда-то выразить боль, радость, страсть, страх - застывают с одинаковой героической гримасой. Настоящие цвета - розовый, зелёный, голубой, карий, рыжий, пшеничный - пропадают, уступают место двум мёртвым: слепяще-мраморному - для вождей, гранитно-серому - для исполнителей их воли.
Раскиданные по всей нашей стране окаменевшие бойцы Великой Отечественной - как наколотые на булавки засушенные бабочки. Одни призваны уберечь от тления красоту и изящество, другие - спасти от забвения героизм и самопожертвование. Но состояние души нельзя сохранить в формалине. Дети, приученные говорить «Слава героям», плохо понимают, о чём речь. Подлинная память о любой войне живёт всего три поколения: чтобы чувствовать, что она значила для тех, кто её пережил, нужно слушать об этой войне от них самих - сидя у них на коленях. Для праправнуков солдат, не заставших уже их в живых, останутся только скучные учебники, слащавые, однобокие фильмы и грозно смотрящие в вечность пустые глаза без зрачков, выдолбленные в граните статуй.
У меня, как и почти у всех, наверное, наворачиваются на глаза слёзы, когда заслуженный артист сочным баритоном выводит «Этот День Победы...». Я тоже рос на фильмах о танкистах и о подвиге разведчика Кузнецова. Нацарапать свастику - символ зла, и звёздочку - герб «хороших» - на флаге или башне танка, до сих пор умеет каждый мальчишка, малюющий что-то в своей тетрадке, и я лично перевёл на эту непреходящую тему не меньше десятка детских альбомов для рисования. Раз в год, увидев старика с орденской планкой, я испытываю желание сказать ему «спасибо», хотя в остальное время его занудство и ставший с годами невыносимым характер заставляют меня пожелать ему самого страшного. В конце концов, я пишу слово «Победа» с большой буквы.
Видимо, я чувствую по поводу той войны и людей, которые в ней победили, то же, что и большинство. Но я не понимаю, почему с каждым годом она становится всё важнее, а остальные, кажется, этому совсем не удивляются.
Памятники и мемориальные доски на каждом углу кажутся мне своеобразными урнами - но не для праха, а для отлетевших душ умерших стариков с орденскими планками. Ваяющие героев Великой войны скульпторы просто отрабатывают гонорары, политики, произносящие речи на церемонии открытия монумента, на самом деле думают о своих любовницах, а дети, кладущие цветы у подножья, волнуются, как бы не споткнуться, идя обратно, ведь это очень важный праздник, хотя и непонятно, почему. Узнать в граните и мраморе отголоски знакомого лица, в последний раз виденного перед боем шесть или семь десятилетий назад, и заплакать могут только ветераны. Скоро их не останется совсем, а город окончательно превратится в бессмысленный и бесполезный сад камней...
Троллейбус конвульсивно дёрнулся, затарахтел и поехал, а я так и сидел, примёрзнув взглядом к сужающемуся прозрачному кружку на белом окне.
В приёмной (назвать её по другому у меня просто не поворачивался язык) бюро переводов «Акаб Цин» на сей раз сидела не та очаровательная роботизированная девушка, что выручила и обрекла меня, передав мне новую главу, а сошедший с рекламной страницы глянцевого журнала для верхнего сегмента среднего класса современный молодой человек в строгом костюме с почти незаметным налётом легкомыслия, дозволенного банковским сотрудникам на коктейльной вечеринке.
Зубы у него были белыми, как альпийские вершины, и он об этом хорошо знал. Радушная улыбка была поразительно прочно пришита к его лицу. Глаза не выражали ровным счётом ничего. Наверное, этот навык вырабатывается только после долгих лет особых тренировок.
Приняв папку с выполненным заказом, клерк поблагодарил меня, и, безошибочно назвав мои имя и отчество, спросил, желаю ли я и дальше продолжать работать с тем же клиентом. Испарину, выступившую на моём лбу, и мелко дрожащие руки, протянутые с жадностью и нетерпеливостью героинщика, он тактично не заметил. Типовой пластиковый файл со следующей частью перевода и гонорар в белом конверте с логотипом бюро «Акаб Цин» легли на прилавок. Никаких вопросов служащий не задал, а обмен двумя одинаковыми чёрными папками и конвертом с хрустящими купюрами дополнил забавное сходство происходящего с некой шпионской операцией или сделкой по поставке всё того же героина.
- Когда же вам успели это доставить? - я указал на полученную мной папку. - Ведь вроде бы я только вчера предыдущую часть забрал на перевод. Вам что, сразу несколько дали? Я бы мог тогда...
- Нет, что вы, - он улыбнулся ещё шире, - мы бы вам тогда, разумеется, вручили всё сразу. Так было бы намного эффективнее. Незадолго до вашего прихода занесли. Минут сорок назад.
- А... вы не могли бы сказать, кто занёс? Как он выглядел, и вообще...
- Мне очень жаль, но мы не предоставляем сведений о наших клиентах, - благожелательное выражение на его лице неуловимо переменилось: то, что я ошибочно принял за улыбку, казалось теперь грозным оскалом хищника, предупреждающим чужака, что тот вступает на запретную территорию.
- Да, я понимаю, прошу прощения...
- Можете вернуть заказ в любое время, как только будет готов, - как ни в чём не бывало продолжил он. - Мы работаем без выходных. Всего доброго.
Стемнело удивительно быстро, словно кто-то повернул выключатель. Когда я заходил в подъезд дома, где находилось бюро, улицы ещё плавали в молочном мареве. Но всего за пятнадцать минут воздух так щедро разбавили чернилами, что, если бы не фонари, от Земли остался бы только пятачок двадцати шагов в радиусе и со мной в центре.
Решив не искушать судьбу, я поехал на метро. С наступлением темноты я почувствовал себя куда менее уверенно, и ни предвкушение нового путешествия во времени, ни мысли о всё четче вырисовывающейся в словесном тумане разгадке конечной цели экспедиции не помогали мне больше отвлечься от образа чудовища, всю ночь ждавшего меня под дверью моей квартиры. В переходах мне несколько раз казалось, что на меня и идущих впереди людей падает тень от огромной фигуры, закрывающей даже светильники на потолке. Я оборачивался, только чтобы укорить себя за слабость и потакание своим глупым страхам. От ощущения того, что за мной следят, физически ощутимо свербило в спине и неприятно щекотало в затылке. Дождавшись поезда на самом краю платформы, я уступил себе ещё раз и, расталкивая выходящих из дверей пассажиров, до отправления успел пробежать два вагона, прежде чем заскочил внутрь. За мной никто не погнался, и до выхода на улицу тревога чуть разжала хватку.
Хотя я мог бы скостить приличный кусок пути, идя от метро по пустым вечерним переулкам, ноги понесли меня на Арбат - там пока было многолюдно, а значит, вероятность нападения снижалась - во всяком случае, мне хотелось так думать. Сдерживать себя мне становилось всё труднее, и если, отсчитывая тройные арбатские фонари, мне ещё удавалось шагать размеренно, чтобы не привлекать внимание, то зайдя в свой двор, я стремглав кинулся к подъезду. На другом конце дворового сквера опять слышался лай - не иначе, как это место действительно облюбовала свора бродячих псов.
Но когда я уже набирал входной код в подъезде, вечернюю арбатскую какофонию - мешанину из гула моторов, шума голосов, гудков и собачьей перебранки - прорезал долгий жуткий вопль, леденящий и какой-то нездешний.
Собаки мгновенно смолкли, словно поперхнувшись своим лаем, а потом одна за другой отчаянно взвыли. Я дёрнул ручку двери, закрывая её за собой, и за считаные секунды взлетел на этаж, загнанно огляделся по сторонам на площадке, и только оказавшись в своей квартире и щёлкнув всеми замками, измождённо прислонился к стене в прихожей и попробовал отдышаться.
На лестнице всё было тихо. Даже не снимая пальто, я прошёл в комнату и выложил на стол папку. Из-под блестящего чёрного пластика мне успокаивающе подмигнула старая песочная бумага. Я вытер вспотевший лоб и откинулся на спинку стула.
«Что значение индейского слова сакб, как называли ту удивительную белокаменную дорогу, по которой мы решили ступать далее, раскрылось для меня лишь позднее. И что жизнь моя от этого переменилась, и я сам после уже никогда не был прежним.
Перемены же эти были связаны со случившимся во время моего странствия по сакбу и с тем, что открылось мне в конце моего пути. С тем знанием, о котором поведу рассказ ниже, и о котором я писал уже во введении к настоящему отчёту, помещённом мною в Первой главе сего дневника...»

Я сбегу отсюда или сдохну.
Я могу сбежать. Я видел окно. Мы сбежим отсюда с Девятьсот Шестым. Я только найду его, и... Я видел окно, где-то здесь... Пытаюсь найти Девятьсот Шестого, рассказать ему, хожу по бесконечному коридору с тысячью дверей, дергаю, толкаю каждую — и все заперты. Где ты?!
— Эй! — толкает меня кто-то в бок. — Эй!
— Что?! — я вскакиваю в своей койке, срываю с глаз повязку.
— Ты во сне разговариваешь!
На меня смотрит Тридцать Восьмой — красивый кудрявый мальчик-девочка, боящийся всего на свете и послушный старшим, чего бы от него ни требовали.
Моя подушка вся мокрая от холодной испарины.
— Ну и чего я там сказал? — симулируя равнодушие, спрашиваю я.
Если я проболтался, если о выходе из интерната узнают другие, его замуруют быстрее, чем я успею снова пробраться в лазарет.
— Ты плакал, — шепчет Тридцать Восьмой.
— Херня какая!
— Тихо! — дергается он. — Все спят!
Да я и не собираюсь продолжать с ним этот разговор! Напяливаю повязку, отворачиваюсь к стене. Стараюсь заснуть, но, как только закрываю глаза, сразу обретаю зрение: вижу бескрайний город за панорамным стеклом, мириады переливающихся огней, башни-атланты, оплетенные, как оптоволоконной паутиной, трассами скоростных поездов, город под серо-багряным клубящимся небом, нанизанным на тонкие лучи отходящего ко сну солнца.
Вижу балконную дверь. Ручку и замок.
— Мы выберемся отсюда, — обещаю я Девятьсот Шестому. — Я нашел...
— Тихо ты! Сейчас вожатые придут! — шепотом кричит Тридцать Восьмой.
И тут я вспоминаю операционный стол, стоящий торцом к удивительному, единственному на весь интернат окну. И продолговатый мешок — застегнутый наглухо мешок именно той длины и ширины, какая нужна, чтобы вместить тело мальчишки — лежащий на этом столе. «Передержали», — вспоминаю я только сейчас слова старшего вожатого.
И понимаю вдруг, что Девятьсот Шестой, мой единственный товарищ, которому я побоялся открыться, исповедоваться в своей дружбе, уже освободился из нашего интерната. Что его не возвращают в нашу палату, в нашу десятку так долго, потому что он лежит, упакованный, в этом мешке. Девятьсот Шестой не дождался ни моей исповеди, ни моего открытия. Я так и остался ему чужим.
Склеп сожрал его. «Передержали».
— Ты спишь? — Тридцать Восьмой тычет меня пальцем, свесившись с верхней койки.
— Да!
— Это правда, что к тебе Пятьсот Третий приставал? — посопев, спрашивает он.
— Тебе какое дело?!
— Ребята говорят, он тебя опустить хотел, а ты ему ухо откусил.
— Кто говорит? — я снова сдергиваю повязку.
— Говорят, теперь он тебя убьет. Он уже всем сказал, что убьет тебя на днях.
— Пусть попробует, — хриплю я, а сам-то слышу, как разгоняется от прилившего страха мое сердце.
Тридцать Восьмой молчит, но продолжает нависать надо мной, катая на языке и боясь выплюнуть свои мысли, и тычась в меня сахарным взглядом.
— Меня знаешь, как зовут? — наконец нерешительно говорит он. — Йозеф.
— Ты рехнулся?! — шиплю я ему. — Мне на хера это знать?!
У нас нет имен! В интернате разрешен только числовой идентификатор. Даже клички под запретом, и наказывают нарушителей беспощадно. У всех, кого как-то звали до попадания в интернат, имена отбирают и обратно выдают только при выпуске. Имя — единственная личная вещь, которую им вернут при освобождении. А тех, кого сюда привезли еще безымянным, назовет как-нибудь старший вожатый, когда придет пора выпускаться из интерната. Если они дотянут до этого дня.
Есть один случай, когда мы можем узнать имя другого из десятки... На первом испытании. Услышал — и тут же забыл.
— Если нас сейчас подслушивают, тебе вожатые за это все ребра переломают!
Но Тридцать Восьмой словно оглох.
— Ты крутой, — вздыхает он.
— Че-го? — морщусь я: только ухажеров мне сейчас не хватало.
— Ты крут, что отшил его.
— Да что мне оставалось-то? Чтобы он меня раздраконил?! Пятьсот Третий?!
Тридцать Восьмой обиженно хлюпает носом. Мои слова звучат, как упрек ему: этот херувимчик, чуть что, сразу бросается на четвереньки и покорно замирает. Я уж думал, у него давно ничего не болит.
— Ну да. В общем, ты крутой, я только это хотел сказать, — еле слышно произносит Тридцать Восьмой и исчезает.
Болит, оказывается. До меня доходит, что ему надо дольше было собираться с духом, чтобы сделать это свое мне признание, чем чтобы взять за щеку у какого-нибудь беспредельщика из старших.
— Надоело... — долетает до меня его полувсхлип. — Не хочу больше...
— Слышь! Тридцать Восемь! — шепчу ему я.
— А? — он отзывается не сразу.
— Девятьсот Шестой не вернется. Он умер. Я труп видел.
— Как это?! — Тридцать Восьмой не показывается больше; по дну его койки видно, как он съеживается, подтягивает колени к подбородку.
— Они его из склепа мертвым достали. Вот как.
— Девятьсот Шестой хороший был, хотя и странный, — отваживается сказать он.
А я совсем неожиданно для себя испытываю к этому жалкому, в общем, существу под тридцать восьмым номером два совсем неуместных чувства: благодарность и уважение. Они толкают меня, и я выползаю со своей полки, забираюсь выше, прижимаюсь к его уху, обрамленному ангельскими белокурыми завитками и говорю:
— Меня Ян зовут.
Он вздрагивает. Да меня и самого трясет. Но я тороплюсь признаться ему, хочу успеть заключить с ним этот пакт, пока он, как Девятьсот Шестой, тоже не исчез навсегда — или пока я сам не исчез.
— Я нашел выход отсюда. Правда! Окно. Хочешь со мной?
И Тридцать Восьмой, конечно же, сразу отвечает: «Нет!», но наутро, перед душем, когда я уже сто раз пожалел о своем предложении, подходит ко мне и застенчиво жмет мне руку: «А что надо делать?». Но в раздевалке стоит тишина, только воздух звенит от любопытства, как на средневековой рыночной площади перед показательным повешением; всем есть дело до наших планов. Скажи я тут слово — нас непременно подслушают и тут же разоблачат.
Хотя Пятьсот Третий должен бы валяться в лазарете, на утреннем построении он оказывается ровно напротив меня. Глядит на меня безотрывно, с улыбкой. А я стараюсь на него не смотреть, но пустота вместо уха против воли примагничивает мои глаза. Пусть, если хочет, протез ставит. От меня эта мразь свое ухо обратно не получит: оно надежно спрятано и уже отдает душком. Мосты горят. Я до крови кусаю губу.
Старший вожатый обходит меня стороной, словно ничего не случилось прошлой ночью. Но все уже всем известно. Люди сторонятся меня, вокруг меня вечно пусто, будто я чумной. Я и есть чумной: пахну скорой смертью, и все боятся ее от меня подцепить.
Со мной теперь только Тридцать Восьмой. Он тоже предпочел бы держаться от меня подальше, но мне нельзя оставаться одному. Повсюду за мной наблюдают тени, в коридоре мне плюют на одежду, в дверях в аудитории толкают плечом. Я помечен, на меня можно теперь охотиться всем, хотя я уверен, Пятьсот Третий захочет все сделать сам.
Целый день я терплю, чтобы держаться подальше от сортира. Считается, что кабинки — единственное место, куда система наблюдения, не заглядывает; именно поэтому туалет — всегдашнее место расправ и сведения счетов.
В столовой я и Тридцать Восьмой садимся рядом. Нами брезгуют даже пацаны из нашей собственной десятки: Триста Десятый — тот, что точно знает разницу между добром и злом, пялится на меня угрюмо из-за соседнего стола, бурчит что-то своему ординарцу — немому переростку Девятисотому. Значит, я на стороне зла.
Ну и хер с ними со всеми. Зато мы с Тридцать Восьмым, оставшись вдвоем, можем, не шевеля губами, неслышно разговаривать. Вокруг стоит такой гул, что у нас есть надежда сохранить наш план в тайне.
Сходимся на том, что Тридцать Восьмой должен попасть в лазарет, притворившись больным, и будет там меня ждать, а я сбегу из палаты этой ночью и проберусь к нему незаконно. Он криками отвлечет врача, я прокрадусь в кабинет и открою окно. Вот и все. А что будет потом — потом и придумаем. Так?
Тридцать Восьмой кивает, а подбородок его дрожит, он улыбается, но улыбка выходит кривой и дерганой.
— Ты точно решил? — спрашиваю его я.
И тут к нашему столу подходят двое — гориллы, обоим по восемнадцать лет. Нет, наверное, здесь никого сильней, страшнее и омерзительней этих двух тварей. Дважды они пытались выпуститься отсюда, и каждый раз проваливались, озлобляясь и тупея все больше. Когда мы были совсем мальчишками, среди нас ходили байки, что каждый провал на экзаменах стоит человеку треть его души. Когда я смотрю на этих двоих, я понимаю, что никакие это не байки. С каждым годом их шанс вообще когда-либо выбраться наружу тает. Те, кому не удастся пройти экзамены три раза подряд, останутся в интернате навсегда. Они превратятся в вожатых.
— Ты что это, кукленыш? — ласково обращается к Тридцать Восьмому один из них, с сальными длинными волосами, с отращенным грязным ногтем на мизинце, с жуткими прозрачными глазами. — Изменяешь нам? Помоложе себе нашел?
Я и не знал, что Тридцать Восьмой — их наложник.
Второй, обритый наголо, с черной клочковатой бородой и сросшимися бровями, только смеется — так беззвучно, будто у него связки перерезаны.
— Нет... Я... Это мой друг. Просто друг это, — Тридцать Восьмой прямо ссыхается, скорчивается.
— Друууууг... — тянет сальный, даже не глядя на меня. — Дружоооочек...
— Отстаньте от него! — бесстрашно встреваю я: завтра я или труп или свободный человек, что мне терять?
— Скажи этому, пусть свое геройство на ночь прибережет, — щерится тот, что с прозрачными глазами, говоря не со мной, а с Тридцать Восьмым, будто меня тут и нет. — Ты ему что, напоследок приятно хочешь сделать?
Тридцать Восьмой униженно улыбается и кивает. Бородатый чешет его за ухом, посылает воздушный поцелуй, и оба отходят, обнявшись как подружки и утробно взрыкивая.
— Точно, — проглатывает сопли Тридцать Восьмой. — Я все точно решил. Точно.
Сначала все идет как по маслу. Кто-то по знакомству разбивает Тридцать Восьмому бровь, и он отправляется к доктору на осмотр. Теперь дело за мной: нужно, чтобы меня не прикончили раньше, чем я успею добраться до лазарета.
Но под вечер щекочущая тяжесть в мочевом пузыре превращается в режущую боль, я не могу из-за нее сделать даже и одного лишнего шага — какое там бежать. Придется рискнуть.
Почти перед самым отбоем, морщась и переминаясь, прокрадываюсь из палаты в коридор. У лифта — у единственного лифта, который может переправить меня на второй этаж к врачебному кабинету — маячат две долговязых фигуры. Мне чудится, что я узнаю упырей из десятки Пятьсот Третьего. Кто-то рассказал им, что я собираюсь смотаться отсюда сегодня? Тридцать Восьмой?
Слышу за спиной чьи-то шаги, припускаю со всех ног, чтобы не взорваться, влетаю в туалет — пусто, счастью своему не верю! — закрываюсь в кабинке, судорожно еле расстегиваю... И когда уже наступает мое чаянное облегчение, расходится по телу вибрирующее блаженство, за моей спиной открывают дверь в кабинку. Но я уже не могу остановиться, и обернуться не смею, и понимаю, что вот сейчас сдохну как настоящий идиот, и из идиотской моей смерти сделают идиотский анекдот в назидание следующим поколениям упрямых идиотов.
— Возьмешь меня с собой, — говорит кто-то. — Понял?
Я выворачиваю шею — еще чуть-чуть, и там что-то хрустнет — и вижу Двести Двадцатого. Доносчика, который сдал моего несбывшегося друга.
— Чего?..
— Возьмешь меня с собой, или я буду у старшего, прежде чем ты до конца доссышь!
— Куда возьму?!
— Я вас слышал. Тебя и твоего сладкого, — он хмыкает.
— Что слышал? Что ты там слышал?!
— Все слышал. Что вы бежите. Ян.
— Тебя взять?! — из меня все льется, я даже не могу посмотреть ему в глаза. — Тебя?! Да ты же стукач! Стукач на стукачей! Ты, мразь, Девятьсот Шестого сдал!
— Ну и сдал! И че?! Он сам лопух! Не хрен трепаться! Короче... Да или нет?
Двести Двадцатый затихает, прислушивается — долго ли мне еще осталось. Я сильней его, и я в бешенстве, он это понимает. Если он не успеет заключить со мной сделку до того, как я иссякну, ему хана. А мне, наоборот, надо тянуть время. Ситуация — обхохочешься, но это пока. Развязка все поменяет.
— Я тебе не верю!
— Да если б я хотел, я б тебя уже заложил! Ты б сейчас кровью ссал уже!
— Ты может, и заложил!
— Слушай, Семь-Один-Семь... Думаешь, мне тут нравится? А?! Я тоже хочу отсюда свалить! Меня тоже тут все знаешь, как... Что, думаешь, я ненормальный какой-то?!
— Ты гнида, вот ты кто!
— Ты сам гнида! Каждый живет, как может! Я зато жопой своей не торгую!
— Да потому что тебя всего с потрохами купили!
Слышу, как он харкает на пол. А потом его голос начинает удаляться.
— Ну и пошел ты... Не хочешь — как хочешь. С тобой вожатые даже разговаривать не станут. Отдадут Пятьсот Третьему. Он тебе за свое ухо все по частям оторвет. Пока! В лазарет можешь не ходить...
Он уже, кажется, в коридоре. Чему-чему, а слову доносчика, который клянется донести, верить можно.
— Стой! Погоди! — я застегиваюсь. — Ладно, ладно!
Нет, Двести Двадцатый замер на пороге — готовый сорваться в любое мгновение. Ухватить его за рыжий вихор, садануть вздернутым носом о колено?
— Чем докажешь? — спрашиваю я.
Он щурится, шмыгает носом, озирается по сторонам.
— Я Вик. Виктор. Имя.
Протягиваю ему свою руку — немытую.
— Я помню, как тебя зовут. Ты круто прошел первое испытание. А я — Ян.
Он глядит на нее внимательно, краснеет — и жмет. Тут-то я его и хватаю. Двести Двадцатый чует беду, дрыгается, но я держу крепко.
— Я знаю, где тебя банда Пятьсот Третьего ждет! Помогу обойти! Проведу тебя! Только возьми меня с собой!
А я вспоминаю Девятьсот Шестого и то, как мы с ним смотрели вместе «Глухих». Потом — вид из окна на город без конца и края, который Девятьсот Шестой тоже увидел бы, если бы не лежал в мешке для трупов. Я больше не знаю, как ему помочь. А после этого думаю, что Двести Двадцатый и вправду мог бы сдать меня уже сто раз и что вожатым проще было бы сцапать меня, как только он им настучал бы. И о том еще думаю, что он прав, что мне сейчас нужен разведчик, иначе шайка Пятьсот Третьего не даст мне даже добраться до лазарета и попытать удачи.
— Не ссы, — подмигиваю я Двести Двадцатому и отпускаю его руку. — Вик.
Он гыгыкает: моя изящная острота ему по вкусу.
И вот мои сообщники: бедный маленький проститут и убежденный стукач. Почему-то мне с ними оказывается просто. Проще, чем с глупым Девятьсот Шестым, который при всех настаивал, что помнит свою мать.
Конечно, я не верю ни тому, ни другому. Конечно, жду предательства. И все же Может быть, все дело в том, что в этот последний вечер мне просто страшно остаться совсем одному, и любой иуда сгодится мне в друзья.
— Там правда окно? Как в видео? — хрюкает Двести Двадцатый, когда мы, заговорщики сортирного пакта, бежим к лифту.
— Самое настоящее, — заверяю его я. — Мы в каком-то высоком здании, в городе.
— А город там здоровый?
— Огромадный! Аж голова кружится.
— Значит, там так можно спрятаться, что никогда не найдут! — восторженно шепчет он, и вдруг тормозит. — Тихо! Там у лифта... Видишь?
Вижу. Я еще тогда увидел, и уже тогда угадал. Двое прыщавых пятнадцатилетних верзил — адъютанты Пятьсот Третьего.
— Ничего... Мы сейчас... — глаза Двести Двадцатого бегают. — Так... Я все сделаю. Жди тут.
Я отхожу назад, прячусь за круглым выступом стены, а Двести Двадцатый шагает вперед, хлюпая носом и насвистывая что-то. Прислоняюсь к стене, набираю воздуха, чтобы мое дыхание не перебивало еле слышное журчание разговора у лифта. Я почти уверен, что Двести Двадцатого сейчас переломят о колено, но через минуту он возвращается — живой и невредимый:
— Айда за мной.
Высовываюсь: у лифта пусто.
— Что ты им сказал? — мне так и не удалось расслышать ничего.
— Секрет, — лыбится он. — Какая тебе разница? Ведь сработало!
Лифт открывается, внутри никого. Я шкурой чувствую ловушку, но ступаю вперед. Весь интернат стал для меня капканом, меня зажало, и я слышу шаги охотника.
Створки ползут в стороны. Коридор пуст. Дурное предчувствие резиновой рукой хирурга щупает мои внутренности.
Звучит сирена отбоя. Вожатые сейчас в палатах — пресекают преднощную болтовню, кнутом загоняют в сон свои стада.
— Вон лазарет! — пихает меня локтем Двести Двадцатый.
— Сам знаю!
Несемся что есть сил ко входу. Охраны нет, никто не бросается нам наперерез, и всевидящее око системы наблюдения словно занято самосозерцанием.
— И что... Что там?! — запыхавшись, рвано кричит он мне на ходу.
— Надо... в докторский кабинет... попасть!
Достигаем двери... Заперто!
— Черт!
Стучим, звоним, скребемся...
— Что это еще за подстава? — шипит Двести Двадцатый. — Ты нарочно это?
— Я думал, тут всегда открыто!
Но тут из недр лазарета раздаются приглушенные мальчишечьи голоса, какая-то возня, а потом дверь мелодично тренькает и поднимается.
На пороге стоит Тридцать Восьмой — бледный, испуганный, бровь заклеена.
— Спасибо! — я хлопаю его по плечу. — Ты крут!
Он неуверенно пожимает плечами, а сам смотрит, смотрит на Двести Двадцатого. Отмалчивается, боясь сказать всем известному стукачу хоть что-нибудь.
— Он с нами, — успокаиваю его я. — Пойдем втроем.
— Можешь звать меня Виктором, — будто это признание стоит его послужного списка, разрешает Двести Двадцатый.
Тридцать Восьмой кивает.
— Ладно... Времени нет. Врач тут? — шепчу я, делая шаг вперед.
Справа начинается цепь больничных палат. Слева — кабинет. Если он у себя, надо его выманить, и тогда...
У меня за спиной неспешно опускается дверь, запирая нас всех внутри.
— Да че ты на пороге-то встал? Проходи, поговорим!
Я даже не понимаю смысл услышанных слов: от одного звука этого голоса волоски у меня на загривке поднимаются, а коленки и кисти охватывает мандраж.
Из правого коридора появляются крадучись двое до пояса голых пятнадцатилеток. Их рубахи — в руках, перекручены в жгуты. Я знаю, зачем: таким можно и связать, и задушить.
Отшатываюсь к двери — но, разумеется, выход уже замурован, для меня — навсегда. Хватаю за волосы Двести Двадцатого.
— Тварь! Предатель!
— Это не я! Это не я! — визжит тот, но через секунду его у меня отнимают.
Я бью ближайшего из них кулаком в живот, но только вывихиваю себе запястье. И сразу после — искры из глаз — меня рвут за сломанный палец.
— Доктор! Доктор! — ору я в последний момент, когда это еще можно сделать.
От боли ноги подгибаются, и тут же на моей шее петля из чьей-то потной рубашки, и чья-то кислая скользкая ладонь зажимает мне рот.
Тридцать Восьмой всхлипывает и проваливается куда-то.
Кто из них меня предал? Кто продал?!
Дверь в докторский кабинет — запертая, глухая — уплывает назад, в марево из пота и слез. Меня волокут от нее, от заветного окна, от свободы — в противоположном направлении. В больничные палаты.
Протаскивают с улюлюканьем через первую — на меня испуганно таращат глазищи-блюдца малолетки с первого уровня, сидящие в своих постелях, закутанные в одеяла. Никто не смеет пискнуть. Самому маленькому — года два с половиной. Но и он не плачет и не смеется, а только старается притвориться, что его тут нет — лишь бы не привлечь к себе внимание. Значит, уже не первую неделю у нас, понимает, что к чему.
А в следующей меня встречают.
В палате все вверх дном. На дверях — стража из банды Пятьсот Третьего. Все кровати-каталки свезены к дальней стене, на них расселись зрители. Все, кроме одной: она стоит посреди палаты, и на ней, как король на троне, по-турецки восседает сам Пять-Ноль-Три. За его спиной — двое холопов.
— Разденьте его!
К тем двоим, что меня удерживают, подскакивают еще — кажется, Пятьсот Третий лег в лазарет со всей своей десяткой — стягивают с меня штаны, рубаху, трусы — на мне не остается ничего.
— Вяжите! К койке привяжите!
Меня силой ставят на колени, собственными моими тряпками приматывают к решетчатой спинке подкаченной услужливо кровати. Я не стыжусь своей наготы: это рутина, мы видим друг друга голыми каждое утро. Но то, как это обставляет Пятьсот Третий, то, как он превращает убийство меня в унижение, в умерщвление, в казнь — заставляет меня жаться, вертеться, стараясь прикрыться хоть как-то, не дать ему удовольствия.
— У нас сегодня суд, — Пятьсот Третий оглядывает мое распятие и плюет на пол. — Над номером Семь-Один-Семь. Которого зовут Ян. Судить мы его будем за то, что эта сучка решила, что у нее тут хозяев нету. А за это у нас какое наказание?
— Хана! — кричит один из холуев за его спиной.
— Хана! — вторит ему другой.
— Ну а вы что молчите? — обращается Пятьсот Третий к согнанным на койки зрителям из случайных. — Вы че, не знаете?
Я моргаю — и сквозь слезную пелену вижу тут и Тридцать Восьмого, и Двести Двадцатого. К обоим приставлены дылды из пятнадцатилетних. Кто из них? Кто?
— Хана... — блеет какой-то доходяга, которому Пятьсот Третий через зрачки уже всю душу высосал, как спагетти.
— Хана, — соглашается толстый мальчик лет десяти; губа у него дрожит.
— Ну, а ты че скажешь? — Пятьсот Третий указывает на Двести Двадцатого.
— Я? А я-то что? — хлюпает тот.
— Как считаешь, нам его кончить тут? Заслужил? — спокойно поясняет Пятьсот Третий.
— Я, ну... Ну вообще... — Двести Двадцатый ерзает, а тем временем к нему подбирается поближе еще один верзила со жгутом в руках. Двести Двадцатый нервно оглядывается на него и мимо меня говорит Пятьсот Третьему. — Заслужил, конечно.
Вот. Я киваю ему. Обошлись без сюрпризов.
— А ты, Три-Восемь? — сожрав остатки совести Двести Двадцатого, как яйцо, Пятьсот Третий переходит к моему херувиму.
Тот молчит. Супится, потеет, но молчит.
— Язык проглотил?! — повышает голос Пятьсот Третий.
Тридцать Восьмой начинает плакать, но слова ни единого так и не произносит.
— Что, жалеешь его? — ржет Пятьсот Три. — Себя пожалей, малыш. Когда с ним разберемся...
— Отпусти его, — просит Тридцать Восьмой.
— Ну да, конечно! — скалится Пятьсот Третий. — Сейчас. Скажи еще, ты не знал, что мы его кончать будем, когда ты нам закладывал его...
— Я... Я не...
— Вот и все. Давай, хватит в пол таращиться. Ты мужик или баба?
Вся его десятка взрывается гоготом.
— Я не... Не... — и Тридцать Восьмой принимается рыдать.
Даже мне брезгливо.
— Пошел отсюда, плесень! — приказывает Пятьсот Третий. — Тебя завтра судить будем.
И Тридцать Восьмой послушно выплетается вон, безутешно гугукая и ахая.
Вдруг мне становится смешно и спокойно. Я идиот, безнадежный идиот. Кому я доверился? На что надеялся? Куда бежал?!
Я перестаю крутиться, мне плевать на то, что у меня все болтается, мне смешно даже то, что меня приладили на больничной койке на манер распятия.
Не могу удержать улыбки. И Пятьсот Третий замечает ее.
— Хер ли ты скалишься? Типа, это все шуточки? — он тоже улыбается мне.
Скулы свело. Губы скрутило. Мое лицо меня не слушается.
— Ладно, — говорит Пятьсот Третий. — Раз ты такой улыбчивый пацанчик. Слушайте, хорьки! Мне, если честно, насрать на то, что вы все думаете. Я решаю. Хана тебе, Семьсот Семнадцать. И знаешь, что? Мое ухо можешь мне не возвращать. У меня твоих оба будут. Давай, Сто Сорок Четвертый.
Тот его подручный, что расхаживал среди публики, отдает честь и забирается на кровать, к которой я привязан. Заходит мне за спину и молниеносно продевает через прутья спинки свой жгут. Я отвлечен словами Пятьсот Третьего про свои уши и слишком поздно соображаю, как именно меня будут казнить. Пытаюсь прижать подбородок к груди, чтобы он не смог завести тряпку мне за шею, но Сто Сорок Четвертый запускает пятерню мне в волосы, силой запрокидывает мою голову назад, и стягивает мне горло жгутом. Больничная кровать превращается в гарроту. Сто Сорок Четвертый сводит концы своего инструмента вместе, скручивает их в узел и начинает проворачивать по кругу, передавливая мою кровь и мой воздух. Я дрыгаюсь, рвусь, кровать ходит ходуном, и еще трое рабов Пятьсот Третьего бросаются ко мне, чтобы обуздать меня, пресечь мою судорожную скачку.
Никто не скажет ни слова. Я дохну в тишине. Мне начинает казаться, будто я тону, будто меня душит, обвив конечности и шею, морское чудище спрут.
Мир прыгает передо мной, прыгает и меркнет, и на зеленые глаза Пятьсот Третьего я натыкаюсь совершенно случайно — хоть он и ищет моего взгляда, жадно ловит его. Я встречаюсь с ним — и цепенею: Пятьсот Третий, улыбаясь, поддрачивает.
— Давай, — одними губами проговаривает он.
И тут при входе раздается грохот.
Чей-то вопль.
— Та-а-ак... — басит кто-то. — Что это у нас тут? Детсад шалит?
Щупальце спрута, который давил мое горло, вдруг слабнет. Кто-то орет, падает с грохотом койка.
— Ты че?! Вы че?! — кричит неведомо кому Пятьсот Третий.
Я, изо всех сил выгребая из предсмертного морока, каким-то чудом высвобождаю руку, пытаюсь отлепить щупальце от своей шеи, жгуты слабнут, я валюсь на пол, ползу куда-то... Дышу, дышу, дышу.
Краем глаза вижу, как посреди палаты расшвыривают шакалов Пятьсот Третьего два огромных зверя — у одного сальная длинная грива, другой обрит наголо и бородат. Я на четвереньках убираюсь куда-нибудь, как можно дальше, и по пути уже до меня доходит, что это жуткие покровители Тридцать Восьмого; наверное, он их и привел.
— Стоять! — летит сзади окрик; Пятьсот Третий.
— Нет! — шепчу ему я.
Если я остановлюсь, я умру. И я, не разбирая пути, ползу на карачках вслепую к жизни.
— Охрана! Охрана! — громыхает надо мной чей-то голос. — У нас бунт!
Взрослый голос.
Тычусь в чьи-то ноги. Поднимаю голову — как могу. И вижу голубой докторский костюм. Вот он, эта тварь. Теперь он меня, значит, услышал?
Из-за пазухи доктор достает что-то... Неужели... У него пистолет.
— Лицом в пол! — кричит он.
Целится он не в меня, а в замершего в двух шагах Пятьсот Третьего. Сейчас или никогда, говорю я себе. Вроде бы я накопил достаточно воздуха. Сейчас или никогда.
Распрямляюсь, подныриваю под его руку, бью снизу вверх. Негромкий хлопок — заряд уходит в потолок, выжирая в нем обугленную дыру. Настоящий пистолет!
Я зубами цепляюсь ошарашенному доктору в кисть, вывинчиваю у него оружие, и, оскальзываясь, голый, бегу к выходу, к окну. Пятьсот Третий бросается за мной, врач отстает всего на секунду.
Кабинет отперт!
Проношусь через первую комнату — голограммы человечьей требухи уютно светятся на подставочках, кровать заправлена, порядок как в операционной.
Пятьсот Третий и доктор толкаются локтями в дверном проеме, я выигрываю еще миг. Его как раз хватает, чтобы домчаться до помещения с окном. Дверь... Врезаюсь в нее с разбегу — закрыто! Закрыто!!!
Волчком раскручиваюсь на месте и успеваю навести ствол на подлетевшего врача, на клацающего зубами Пятьсот Третьего.
— Открывай! — ору я истошно.
— Что тебе? Зачем тебе туда?! Там ничего нет! — доктор примирительно выставляет вперед ладони, делает шажок ко мне. — Ты не волнуйся, мы тебя не станем наказывать...
А за его спиной вижу: на рабочем месте горит экран с видом на ту палату, где меня казнили, дымится чашечка кофе — эта скотина не спала, а щекотала себе нервы, наблюдая экзекуцию из вип-ложи.
— Открывай, сука!!! — пистолет прыгает в моих руках. — Или я...
— Хорошо-хорошо... — он оглядывается на вход. — Хорошо. Позволь, я пройду...
— Ты! Десять шагов назад! — я тычу стволом в Пятьсот Третьего, который выбирает удобный момент, чтобы ударить.
Он как бы подчиняется — но неспешно, вальяжно.
Доктор суетится, прикладывает ладонь к сканеру, говорит: «Открой» — и дверь слушается.
— Ну вот, пожалуйста, — разводит руками он. — И зачем тебе сюда?
— Пошел вон! — отвечаю я. — Вон пошел отсюда, извращенец!
Врач отходит, не снимая услужливой гримасы со своего поношенного лица. И я вижу... Вижу его. Я так боялся спугнуть его, это мое наваждение. Боялся, что окно окажется моим сном, что, просыпаясь, я не смогу контрабандой протащить его с собой в реальность. Но оно на месте.
И город тут. Город, который ждал меня здесь пять сотен лет, и все же дождался. За стеклом, как и у нас, ночь. Белая ночь: мягко сияет заряженное светом башен небесное море, море дымов и испарений, дыхание гигаполиса, отгоняя темноту. Струятся мерцающие реки скоростных туннелей, живет в своих башнях счастливо миллиард человек, не подозревая, что в одной из них, неотличимой от прочих, устроен тайный детский концлагерь.
Шагаю к нему.
Вот ручка. Надо только потянуть за нее, и окно распахнется, и там я уже буду свободен делать, что захочу, хоть бы и прыгнуть вниз.
Но в комнате непостижимо появляется Пятьсот Третий — и у меня остается половина секунды, чтобы завершить все.
Я могу выстрелить ему в оскаленный рот и закончить нашу с ним историю навсегда. Нет в то мгновение ничего проще, чем выстрелить ему в рот.
Однако я отвожу руку в сторону и стреляю — в стекло.
Потому что это мне сейчас нужней. Разбить скорлупу проклятого яйца изнутри, высунуться из него, набрать легкие настоящего горького воздуха, а не чертова безвкусного заменителя, которым нас накачивают, и побыть хоть чуточку без потолка над головой.
— Слабак! — говорит мне Пятьсот Третий.
Не знаю, чем там заряжен у доктора пистолет, но в стекле он проплавляет огромную рану. И уничтожает город.
Пропадают башни-атланты, исчезает волокно висячих туннелей, гаснут люминесцентные небеса. Остаются искрящиеся провода, дымящиеся электронные потроха, чернота остается.
Это экран.
Первый объемный панорамный симулятор в моей жизни.
Промелькивает что-то, пистолет выпадает из моей руки, а сам я качусь на пол.
— Слабак! — хрипит сверху Пятьсот Третий. — Жжжалкий...
— Безопасность! — перебивают его незнакомые железные голоса. — Всем на пол!
— Я его вам не отдам! — ревет Пятьсот Третий. — Он мой! Мой!
— Оставь его! — кричит доктор. — Пускай с ним старший вожатый разбирается! Это все слишком далеко зашло!
И Пятьсот Третий, дыша так шумно, словно у него в каждом легком по дыре, отступается.
На голову мне надевают черный мешок. И потом — в темноте уже — я слышу анонимное хихиканье:
— Ты что, думал, вы вот так в городе сидите? Таких ублюдков, как вы, с нормальными людьми вместе держать будут, думал? Да тут пустыня вокруг, и безопасности три периметра! Отсюда никто никогда не бежал. И не убежит никогда. Один у тебя путь был, у кретина: отучиться и выпуститься... А теперь...
— Куда его? — спрашивает железный голос.
— В склеп, — отсмеявшись, приговаривает меня аноним.
В никуда.

Это не сон.
Я не могу уснуть, боюсь спать. Не хочу возвращаться в свою каморку. Смотрю на часы. Я на ногах уже почти сутки, но сон не идет.
Коммуникатор издает писк: видео, снятое мной в центре по утилизации вторсырья, отправилось Шрейеру. Отчет о проделанной работе. Наслаждайтесь просмотром.
Я не мог поступить иначе, говорю я Девятьсот Шестому.
Я не мог поступить иначе.
Ты совершил ошибку, пищит во мне какой-то чужой голос.
На одном из ярусов башни, в которой я живу, есть крохотный технический балкон. Пару метров длиной, а в ширину — не больше полуметра. Как раз хватит места, чтобы улечься лицом вверх. Наверное, такие же балконы устроены и на других этажах, но я прихожу именно сюда.
Он открытый: прозрачного ограждения мне еле хватает по пояс, прозрачный пол под ногами, если бы не царапины, не был бы виден вообще. Наверху, обрамленное сходящимися в перспективе вершинами башен, течет небо. А я парю над бездной.
У моего изголовья — ополовиненная бутылка текилы. Конечно, «Картель».
Есть воспоминания, которые не меркнут ничуть, сколько бы времени ни прошло. У каждого хранятся в прошлом события, которые по первому слову предстают перед мысленным взором так же четко и ярко, как если бы случились вчера.
Поворачиваю голову вбок и вижу город. Если чуть прищуриться, вывести его из фокуса, можно подумать, что это тот самый пейзаж, который транслировало единственное интернатское окно. Но все, что я вижу сейчас — реально, говорю я себе.
Я же на свободе.
И волен делать, что захочу, хоть бы и прыгнуть вниз!
Ради того, чтобы узнать код доступа на этот балкон, пришлось врать что-то неуклюже, а потом еще и как-то подпитывать эту ложь. Но код того стоил. Я прихожу сюда, когда мне надо убедиться в том, что я больше не в интернате. Что я взрослый, уверенный в себе человек. А как в этом убедиться, если не сравнением себя нынешнего с собой тогдашним? Для этого повидаться с ним, выпить вместе, вспомнить былое. Тут наше место свиданий.
Я пришел сюда встретиться с собой наедине, но Аннели отыскала меня и здесь.
Думаю о ней. Не получается не думать. О ее искусанных губах, о шее с веточками артерий, о ее измучанных коленях.
Мне редко приходится сомневаться или жалеть о совершенном — моя работа обычно избавляет меня от необходимости делать выбор, а когда нет выбора, нет и сожалений. Счастлив тот, за кого все решают другие: ему не в чем исповедоваться.
Думаю о хрустальном гробу, в который положил ее. О разметанных волосах. О подведенных глазах и губах, которые она красила, глядясь в стеклянную стену вагона, мчась на свидание с Рокаморой.
Что это? Что со мной? Почему она меня не отпускает? Почему я не отпускаю ее?
Это не чувство вины, говорю я себе. Это не раскаяние. И это точно не любовь.
Просто желание, телесный голод, ненасыщенный зуд.
Убив ее, я не перестал ее хотеть. Наоборот, только распалился.
Мне нужно изгнать ее из себя. Избавиться от наваждения. Облегчиться.
Я знаю только один храм, где меня смогут должно причастить и честно исповедовать: Либфрауенмюнстер. Страсбургский кафедральный собор.
Я поднимаюсь.
Свидание окончено.
Лифт опускается на нулевой уровень. Я возвращаюсь с небес на землю по самому земному из дел.
Последний пролет длится особенно долго: под перекрытиями второго яруса башни «Левиафан» надо было упрятать здание, которое до двадцатого века было самым высоким в мире. Но и «долго» в мире высоких скоростей означает — несколько секунд.
Я выхожу из подъезда четырехэтажного каменного дома, ступаю на бугорчатую пыльную мостовую. Справа и слева к этому зданию приросли дома поменьше, за ними — без проулков, без промежутков — приклеены строения в пять этажей, и так дальше, зубчатой стеной. Такая же стена напротив: я на улице средневекового города. Здания выкрашены в разные умильные цвета, есть и фахверковые пряники; окна мягко светятся и горят уличные фонари.
Якобы мы в Страсбурге века эдак двадцатого.
То есть, брусчатка у меня под ногами — та же самая, по которой ходили тут пятьсот лет назад. И фасады домов те же, что когда-то простояли несколько веков снаружи, под живыми облаками. Только вот улица, убегающая было в даль, бьется о глухую стену. Заканчивается тупиком из черного зеркала, да и начинается им же. Раньше там были круглосуточно включенные экраны, которые создавали видимость перспективы, продолжали обрубленную улицу и населяли ее шумной толпой. И фасады зданий по той стороне, откуда я появился, утоплены в такую же стену из чернильного стекла. Она достраивала обрезанные крыши, изображала дальние кварталы и служила небом.
Но для того, чтобы симулировать реальность, приходилось жечь немало электричества. Европа работает на предельных оборотах, и каждый киловатт, как и каждый глоток воды или воздуха, выставлен на аукцион. Его покупает тот, кто может его себе позволить. А на нулевом уровне живут те, кто не может платить по счетам за иллюзии. Поэтому небо и перспектива тут отключены за неуплату.
Один квадратный километр старого Страсбурга заключен в куб из черного стекла. Когда попадаешь сюда впервые, можно обмануться и решить, что здесь просто ночь. Но ночь такой темной не бывает. Такая тьма может стоять, скажем, во чреве кита.
В брюхо выныривающего из эльзасской земли «Левиафана» набился миллион метров перекушенных старинных улочек, обсосанных временем каменных мостовых, объедков кирпичных домов. Но он еще заглотил и добычу, переварить которую ему оказалось не по силам.
В самой середине бокса стоит сто сорокаметровая глыба — Штрассбургер Либфраумюнстер. Я зову его по-свойски — просто Мюнстер.
Возводили его, кажется, лет пятьсот, что при тогдашней мышиной продолжительности жизни человека равнялось бесконечности. Двести долгих лет эта штуковина была самым высоким в мире сооружением. В тот момент, наверное, могло показаться, что корпели не зря.
Потом человечество наловчилось строить из стали, и сложенный из розового песчаника собор вышел на пенсию; а когда наступила эра композита, его просто убрали в кладовку к другим старым игрушкам.
В алом свечении уличных фонарей и Мюнстер, и ведущие к нему из зазеркалья улочки кажутся сценическими декорациями. И правда, тут все насквозь — бутафория. Каждое из светящихся окон — зашторенных, от чужих глаз — театр теней, в котором разыгрываются по ролям запрещенные пьесы. Мечутся на занавесках силуэты, слышатся смех, стон, плач.
Легко поддаться любопытству, сбиться с пути и постучаться в любую из запертых дверей. Но мне нужно в церковь.
Мюнстер строили чуть ли не тысячу лет, но до конца дело так и не довели: возвели только одну башню из двух, а другую бросили недостроенной. Из-за этого теперь выглядит он как инвалид, который взывает к господу, воздев к небу и целую руку, и культю второй, оторванной по плечо.
Фасад собора оплетен тонким кружевом из розового песчаника, со стен смотрят вниз горгульи и святые. Вход — две высоких деревянных створы под стрельчатой аркой, по обе стороны от него — каменная стража: апостолы. Арка углубляется в монолит храма ступенчатыми сводами, и на каждой ступени — ангелы с лютнями, целое воинство. Над аркой — кто-то из безымянных королей на своем троне, над ним — богородица с младенцем на коленях, а венчает все суровый лик бородатого старца.
В общем, цирк.
Поднимаюсь по ступеням. Ангелы на ступенчатом своде арки проплывают над моей головой, складываются гармошкой, остаются на входе. Внутрь им нельзя. Толкаю тяжелую деревянную дверь: в щель выплескиваются органные аккорды.
Меня встречает метрдотель в плешивой ливрее; у новых хозяев храма свое представление о прекрасном. Но кто их будет корить? Мюнстеру все равно повезло, он хотя бы при деле.
— Добро пожаловать в клуб «Фетиш», — он учтиво кланяется мне. — Как к вам следует обращаться?
— Семь-Один-Семь.
— Простите?
— Семь-Один-Семь. Так меня и зовите. Вы здесь недавно? — улыбаюсь ему я.
— Простите. Вторую неделю. Постоянный гость? — тараторит он, сообразив, что оплошал. — Вы резервировали?
— Нет, хочется свеженького.
Даже тут нам не рекомендуется заводить привязанности.
Доносятся откуда-то мужские голоса — неразличимые, низкие, сливающиеся вместе, как гул машин. Странно... Обычно тут ни души. Метрдотель слышит мои мысли.
— У нас сегодня настоящий аншлаг, — шагая впереди, он то и дело оборачивается ко мне. — Говорят, по «Заброшенному кинотеатру» начали показ какого-то старинного сериала про жизнь Иисуса. Мы связываем с ним большие надежды, знаете. В последнее время еле сводили концы с концами... Начальство говорило, тема выдохлась совсем...
Внутри собора ничего не переделывали: я из любознательности разглядывал старые снимки, похоже, что тут даже ремонта не было. Те же закопченные своды, те же угрюмые слепые статуи по углам. Разве что ряды деревянных сидений, на которых когда-то сидели пришедшие на мессу, вычистили. Освободили площадь для массовых мероприятий. Но сейчас у них затишье, и центральный неф храма выглядит просто как неф храма.
В полумраке далеко впереди виднеется алтарь; там идут какие-то приготовления. Но метрдотель ведет меня налево, в уютный боковой неф, где потолок ниже и придавливает привычно, и где вдоль стены размещаются устроенные в нишах витрины, каждая отделена от предыдущей тяжелой бархатной портьерой. Они представляют собой или живые библейские сценки, или произвольные фантазии на тему монашеской жизни. Прелесть ситуации в том, что любую ветхозаветную героиню и любую монахиню тут можно выбрать. От Евы и до царицы Савской. На любой вкус.
— Новый завет представлен в правом нефе. Есть, конечно, и без религиозных аллюзий, — благочестиво шепчет метрдотель. — В подвальных помещениях у нас просто стрип-бар, в нейтральной стилистике.
— Ну что вы, — отвечаю я. — Я ведь постоянный гость. Зачем же мне без аллюзий?
— Приятно встретить ценителя, — расплывается в улыбке метрдотель. — Может быть, Эсфирь?
Я гляжу на кудрявую волоокую Эсфирь, раскинувшуюся на шелковых коврах, на ее тяжелые бедра, на золотую парчу, в которую обернуто ее темное тело, на сияющую от масел кожу. Парча и шелк — однозначно, композитный эрзац, зато Эсфирь такой, наверное, и была. Только мне не нужна Эсфирь.
Она не даст мне облегчения, не даст свободы. Качаю головой.
Эсфирь понимает, что я не за ней — и отворачивается от меня ленно, как львица в зоопарке.
Потом я пропускаю Юдифь, Ребекку, и нескольких монашек разной степени разнузданности — одна даже идет уже в комплекте с розгами. Та, что с розгами, хороша.
— Сарра, Суламифь и Далила, к сожалению, пока заняты, — глядя в свой коммуникатор, разводит руками метрдотель.
— Покажите Евангелие, — прошу я.
И меня провожают в правый неф. Но по пути я задерживаюсь у больших астрономических часов двадцати метров в высоту.
— Наша гордость, — говорит метрдотель.
И собирается, видимо, рассказать мне о них в расчете на чаевые. Я останавливаю его жестом: все, что мне надо знать про эти часы, я про них знаю.
Сколько раз видел их тут — и никогда не мог пройти мимо. Над обычным циферблатом нависает еще один, огромный — только вместо римских V и X на делениях — знаки Зодиака, а к стрелок не две, а шесть, и к каждой прикреплена маленькая золоченая планета: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер и Сатурн. Других планет в начале девятнадцатого века, когда французский часовщик впервые закручивал их пружины, не существовало.
Хитроумный механизм посылает все планеты аккуратно по их орбитам, умеет вычислять даты тех праздников, дни которых меняются от года к году, но главное — тут есть часть, которая показывает прецессию земной оси, безупречно точная и невероятно медленная: один оборот занимает почти двадцать шесть тысяч лет.
Зачем часовщику было добавлять сюда эту часть, думаю я. Вряд ли его собственная жизнь продлилась дольше, чем один градус, одна трехсот шестидесятая часть полного оборота стрелки. До открытия бессмертия оставалось еще двести с лишним лет, он и не мог надеяться увидеть, как цикл будет закончен. Зачем кропотливо рассчитывать силу крохотных пружин, выверять шажки миниатюрных шестеренок, зная, что все твое существование на земле — детские воспоминания, вся вражда и вся любовь, дряхление и смерть уместится в одну трехсот шестидесятую часть циферблата, который ты сам же и разграничиваешь? Зачем создавать механизм, напоминающий тебе о собственной твоей ничтожности? Унижающий каждого смертного, который смотрит на него: придя в первый раз к этим часам маленьким ребенком, а в последний — приползя задыхающейся от старости развалиной — никто из современников часовщика не заметил бы разницы между положениями механизма. Их жизнь вся промелькнула, а стрелка подвинулась на ничтожный градус.
Наверное, думаю я, все было затеяно, чтобы, отладив эту машину, он мог иногда взяться за стрелки снаружи и провернуть планеты насильно, почувствовать себя тем бородатым стариком с фасада здания. Крутануть стрелку прецессии, отмотать двадцать шесть тысяч лет разом, скакнуть в будущее, которое никогда не застанешь...
В наше время никому и в голову бы не пришло ради такого ковыряться в машинном масле десятилетия и сажать зрение.
Над планетами, над вычислителем прецессии — доказательство моей правоты. Венчает часы механизм, который должен развлекать толпу: два балкончика, один над другим, по ним водят хоровод раскрашенные фигурки.
На нижнем стоит Смерть — в руках два колокола, вместо головы — череп. Перед ней по кругу ездят согбенные людишки — старик, мальчонка, женщина... На верхнем Христос принимает парад апостолов. Фигурки выезжают из маленькой дверки и, прокатившись перед своим главнокомандующим, убираются в другую такую же. Несложная метафора:
Иисус с апостолами выше смерти. Однако тут лукавство.
Христос должен был бы стоять на верхнем балкончике вместе со Смертью, освященный веками тандем. А внизу под ними, задрав подобострастно головы, толпились бы обреченные человечки — и рядовые, и апостолы. Если бы Христа изображал я, лицо длинноволосого страдальца, растиражированное как трафаретный портрет Че Гевары, я поместил бы ему на затылок. А с фасада на свою паству глядел бы пустыми глазницами голый череп. Потому что Иисус и Смерть — не тандем даже. Они — две личины одного бога.
Не было бы смерти, не на чем было бы спекулировать церкви.
Не родился бы и Иисус — ехидный лицедей. Коммивояжер с каталогом пустых надежд. Предводитель мертвецов.
— А можно Деву Марию посмотреть? — спрашиваю я у метрдотеля.
— Богохульники! Мерзавцы! Не смейте! — доносится до меня сдавленный вопль.
— Простите, — бледнеет метрдотель. — Через секунду буду с вами.
И бежит ко входу, где вышибалы пытаются поднять с пола пластающегося мужичка в черном сюртуке.
Я следую за ним. Руки чешутся.
— Оставьте меня! Оставьте! — визжит сюртук. — Осквернили! Осквернили храм!
— Полицию? — спрашивает запыхавшийся вышибала.
— Какая полиция?! «Скорую»! — машет руками метрдотель. — Видите же: сумасшедший!
У меня вдруг начинает покалывать руку. Это включенный на беззвучный режим коммуникатор: входящий вызов. Смотрю: Шрейер. Прикасаюсь к экрану, сбрасываю его. Не могу сейчас об этом говорить.
— Вы дрянь! Варвары! — продолжает вопить мужичонка в сюртуке.
Приближаюсь, разглядываю его. И понимаю, что он... стареет. Ему точно больше наших предельных тридцати. Морщины... Редеющие волосы... Неприятно.
— И ты! Ты! Ты пришел к ним купаться в грязи! — он замечает, что я на него пялюсь, грозит мне своим кулачком, сверкает белками.
Я улыбаюсь.
— Послушайте... Уважаемый... Это частное заведение... Мы имеем право пускать или не пускать клиентов на свое усмотрение... Вы нам репутацию портите! — делая гипнотические пассы руками, пытается утихомирить его метрдотель. — Ради бога, простите, — озирается он на меня.
— Ничего, — отвечаю я. — Я не спешу.
— Не могу набрать... Не дает... — пыхтит один из охранников.
— Содомиты! Вандалы!!! — несмотря на внешнюю щуплость, у сюртука хватает сил выворачиваться из волосатых ручищ вышибал.
— Ай! Дайте, я сам! — метрдотель шепчет что-то в коммуникатор. — Врачей... Да... Буйный... Не справляемся!
Наконец его скручивают. Двое громил садятся на него сверху, но он еще выгибается дугой, вращает глазами, брызжет слюной.
— Право слово, не понимаю, зачем скандалить? — метрдотель отряхивает свою ливрею, переводит дух. — Сами посмотрите... Как у нас тут все... В идеальном порядке...
— Святая Церковь!.. Псы!.. Псы нечестивые!
— Ну что вы как маленький? Святая Церковь разве может платить за эти помещения? Посмотрите, какая громадина! Мы сами-то еле сводим концы с концами, а такие, как вы, пытаются у нас последних клиентов отвадить! Другие соборы, вон, посносили уже... А мы стоим!
— Блудниц... В храм... — хрипит тот.
— Да что вы с ним цацкаетесь?! — не выдерживаю я.
Подхожу ближе, сажусь на корточки прямо перед ним.
— Кто же виноват, что у бородатого бизнес прогорел? — спрашиваю я у сюртука. — Две тысячи лет торговал себе душами и горя не знал, а потом раз — и прогорел! Кому ваша душа понадобится, когда тело не тлеет, а?
— Безумец! — кричит мне безумец.
— А у нас свободный рынок! Кто может аренду платить, тот ее и платит! Где твоя Церковь? Обанкротилась! Не идет дело — закрывай лавку, нечего людям голову морочить! И пускай хоть бойни на твоем месте открывают, хоть бордель, бордели всегда нужны! А ты не нужен! Смирись и сдохни!
— У нас закрытый мужской клуб, — укоризненно поправляет метрдотель.
— Ты одержимый! Одержимый! — он крутится в судорогах, словно одержимый.
— Ты мне фальшивку впариваешь! Я не хочу в твой рай! Твой рай сырыми яйцами на штукатуренном потолке нарисован! Вот тебе твой рай! — я плюю на пол.
— Ты в аду гореть будешь!!! — у него на губах выступает пена. Эпилептик; я так и знал.
— И ад твой тоже из яичного белка! — смеюсь я ему в лицо. — Один ты в него и веришь! Никто больше не верит, кроме тебя, идиота! А знаешь, почему?!
— Сатана... Ты сатана! — он бьется уже тише, силы иссякают.
— Потому что ты стареешь! Думаешь, не видно? Потому что прошляпил настоящее свое бессмертие! От случки не удержался! Согреши-и-ил! Потому что тело твое дырявое все, из тебя жизнь протекает! Вот о душе и вспомнил! Приперся воевать! А у нас тут свои законы! У нас тут и без бога все прекрасно! Мне твой бог не указ, ясно?! Пускай старичьем командует! А я всегда молодым буду!
— Сатана... — он трудно дышит, обмякает.
И только тут входит бригада скорой помощи. Ему засовывают что-то под язык, пристегивают к носилкам, сканируют пульс, сердце. Его взгляд блуждает.
— Какую-то ерунду несет... — объясняет метрдотель медикам. — Оскверняем храм, мол. Мы наоборот, так сказать, культурное наследие сохраняем... Как ответственные собственники...
— Редкий случай, — важно кивает старший бригады, мулат с аккуратной бородкой. — Мы дали ему седативчиков, а в деталях будут в психлечебнице разбираться.
— Это из-за сериала, наверное...
— Эк вы его отделали, — жмет мне руку один из вышибал, когда фанатика наконец выносят вон. — По психологии!
— По психологии, — повторяю я за ним, криво улыбаясь. Меня колотит.
— Вы, кажется, хотели на нашу Деву Марию взглянуть, — любезно напоминает мне метрдотель. — У нас как раз новая.
Богородица оказывается совсем неожиданной: остриженная под горшок блондинка без макияжа, одетая в простое белое платье, вроде греческой хламиды. В руках — завернутая в пеленки кукла.
Она красива, да, но в меру — пышногрудая позолоченная Эсфирь затмевает ее, да и кукольная Ребекка — настоящая звезда по сравнению с этой пейзанкой. Но что-то в ней...
— Вот... Решили менее традиционно подойти...
— Я беру. На час.
— Желаете тут остаться, или?.. В подвале есть свободные номера.
Глупейшая декорация — рождественские ясли. Но ничего — хлев так хлев. Какая разница?
— Тут.
Он шепчет что-то, и сверху опускается красный занавес, оставляя нас с Пресвятой Девой наедине, за кулисами, и отсекая напрочь свет и звук остальной Земли. Она изучающе смотрит на меня, не выпуская куклы из рук.
— Убери это куда-нибудь... — я отмахиваюсь от младенца Христа.
Она послушно прячет куклу под какую-то тряпку.
— Как тебя зовут?
— Мария.
— Ну да, — усмехаюсь я. — А я Иосиф.
— Привет, Иосиф. У нас час, да?
— Пока да.
— А можно, мы просто так посидим чуть-чуть? — вдруг говорит она. — Сегодня день такой долгий, обычно никого, а сегодня один за одним идут, даже пообедать не успела. Говорят, какой-то сериал запустили, вот все и вспомнили... Хочешь кофе?
— Нет. Но... Но ты пей.
И она достает откуда-то самонагревающуюся баночку кофе со сливками, вытягивает ноги, закрывает глаза, прихлебывает кофе маленькими глотками. Потом быстро курит сигаретку.
Я тем временем разглядываю убранство хлева: плюшевые чучела овец за пластиковыми оградами яслей, искусственный вьюнок на беленых стенах...На одной из них — раскрашенное распятие, отлитое из композита. Декораторы-кретины перестарались с клише, не учли хронологии.
Нарисованная кровь сочится из Христовых ран, в которых он сам виноват, которых не захотел избежать, членовредитель. Он сам себе их нанес чужими руками, чтобы вогнать в долги нас всех. Расплатился авансом за наши грехи, которых мы не совершали. Заставил тысячу поколений людей рождаться виноватыми и всю жизнь с процентами возвращать ему этот навязанный кредит. Спасибо.
Дева Мария гасит сигарету, благодарит меня улыбкой.
— Мне раздеться самой или сначала раздеть тебя?
— Не надо меня... Давай ты.
Мария поднимается медленно, не сводя с меня глаз, и правой рукой сталкивает платье со своего левого плеча — худого, белого, простого. Потом левой рукой опускает ткань с правого — хламида скользит вниз, обтекает бедра и падает к ее ногам. Она стоит передо мной нагая, прикрывая только соски.
Смотрю я на нее, а вижу перед собой все равно — синяки на тонких запястьях, и косо отстриженные темно-русые волосы, и высокие скулы в ретуши, и заход вечерних желтых глаз. Мотаю головой, чтобы вытряхнуть из нее образы, льдинками засевшие в моих нейронах и аксонах.
Освободи меня, молю я беззвучно Деву Марию. Избави от бесов, ибо одержим.
Я — чаша, наполненная до краев черным дегтем. Я стою смирно, боясь расплескать себя. Забери излишек дегтя, вытяни из меня яд. Я подаюсь к ней.
— Говори дальше, — просит она, и все рушится.
Я жду от Марии искусной помощи; что мне толку от девственницы?
— Что — дальше? Это ты тут шлюха, а не я! Почему я должен тебя всему учить?
Тогда она делает шаг мне навстречу. Становится на колени. Обнимает мои ноги. Проводит ладонями — от икр к тыльной стороне коленей — и к ягодицам. Приникает лицом к моему паху. Ее пальцы оказываются на моей спине — уже под ремнем, обегают круг с двух сторон, останавливаются на застежке.
Клик.
Какие теплые и мягкие у нее пальцы.
Хватаюсь руками за ограду яслей, чтобы не потерять равновесие. Цепляюсь взглядом за распятие против меня.
— Смотри, — говорю я ему.
И Христос смотрит — из-под набрякших век, смотрит сквозь свои притворные слезы, и молчит, потому что ему нечего сказать.
— Лжец, — шепчу я ему. — Предатель!
— Что ты говоришь? — Мария отрывается от меня.
И тут же ее замещает другая женщина.
Маленькие твердые груди, стоящие соски, искусанная шея, черно-зеленые отпечатки пальцев на тонких бедрах, багровые полосы на животе и на спине. Русые волосы по плечи, брови как крылья чайки.
Аннели.
Нет. Надо прогнать ее! Надо от нее избавиться!
— Продолжай! Продолжай!
Вспоминаю другое распятие — вырезанное из темного дерева, маленькое и обшарпанное, накопившее царапин и сколов за несколько столетий. Позолота тернового венца... Он тоже смотрел на меня.
Я проваливаюсь — мне горячо, мокро, блаженно.
— Шлюха... — я прокусываю свою губу. Слизываю кровь.
— Все хорошо?
— Хватит спрашивать меня! Хватит меня допрашивать!
— Извини... Просто...
— Что просто?! — я отталкиваю ее. — Зачем ты это делаешь?!
— У тебя слезы, — тихо произносит она.
— Херня какая!
Она садится как рабыня — ягодицами на пятки, спина прямая, руки висят вдоль тела. Я размазываю кулаком стынущую водицу по скулам.
— Слезы, — настаивает она.
— Не лезь мне в душу! Ты просто блядь, вот и занимайся своим блядским делом! — кричу я на нее. — Соси!
— Ты устал? Тебе плохо?
Она должна была просто зачерпнуть из меня дегтя маленькой ложечкой, зачерпнуть и отлить, чтобы я не переполнился. Но она вместо этого опускает в меня обе руки. И черная густая жижа плещет наружу через края. И со дна поднимается что-то... Забытое, страшное.
Это деревянное распятие, этот золотой ободок...
— Шлюха... Зачем ты ему поверила?...
Я с оттягом даю ей звонкую пощечину, как будто пощечина может остановить пробуждение того, что спало на самом моем дне. Сильно бью — так, что ее голова запрокидывается.
Она вскрикивает, отшатывается, хватается за ожог на щеке. Я сжимаюсь. Сейчас она позовет охрану, меня вышвырнут отсюда или вызовут полицию.
— Агнешка, с тобой все в порядке? — слышится из-за занавеса встревоженный голос.
Она беззвучно плачет.
— Агнешка? — повторяют за кулисами.
— Да! — зло говорит она. — Да, все хорошо!
Мне стыдно. Я чувствую, как горят мои щеки — будто это не я, а меня по ним отхлестали. Ее слезы смывают мою боль, мой страх, мои сомнения. Все смывают.
— Агнешка, — произношу я. — Прости меня. Я и забыл, что ты не Дева Мария. Что ты тут не при чем.
— Зачем? Зачем ты так со мной?
— Это я не с тобой... Не с тобой, Агнешка.
Она кивает, но взять в руки себя не может.
— Прости, что ударил тебя... Ну? Извини. Иди сюда.
Я обнимаю ее, прижимаю к себе.
— Я... Я не из-за этого... — она сначала противится, но потом обмякает, отдает себя в мои объятия. — Многим нравится... Бить.
— Все равно я не должен был... Мы же не договаривались так...
— Нет, — она мотает головой. — Я плачу, потому что я дура. Потому что обиделась на тебя. Подумала сначала — наверное, хороший человек.
— Не надо так...
— И... Я только сегодня в этой роли, тут надбавка идет... За фетиш. Раньше я просто. Ну и... Знаешь, чтобы не думать обо всей этой херне про Деву Марию, и что я ее изображаю... Просто подумала, что ты — симпатичный парень, и что... Ну, что если бы я тебя встретила не на работе, и если бы ты не знал, кто я... Могло бы что-нибудь получиться. А ты мне просто напомнил... Что я тебя на работе встретила. Так... Как плеткой, знаешь?
— Я не тебе это говорил. Про шлюху.
— А кому?
— Так, никому.
Не могу объяснить. Не могу признаться. Этот херов мученик подглядывает за мной со своего разукрашенного креста. Одно дело — опустошить при нем простату, и другое — опростать душу.
— Видно же, что у тебя к ним всем счеты какие-то. Нормальный человек сюда разве пришел бы? Это же как в музее мумии египетские пялить... Ты старый, да? Еще при них родился?
Коммуникатор снова принимается колоть мою кожу.
Вызов. Шрейер.
Я не хочу говорить с ним! Не хочу принимать похвалу, не хочу обсуждать, как все прошло. Провожу по экрану пальцем, сбрасываю его.
— Какая разница, сколько мне?
— Никакой, наверное. Просто хочется, чтобы тебя отпустило. Хочешь, я тебе...
— Нет, — я мягко отвожу ее руку. — Нет, не надо. Меня уже отпустило.
— Не бойся... — говорит она.
Мотаю головой — отчаянно, как ребенок. Перед глазами другое распятие — деревянный крестик, золотой венец. Лестница на второй этаж, «пиу-пиу», несобранная модель звездолета, чайный цветок в прозрачной чашке... «Не бойся. Он защитит нас».
— Предатель... Обманщик... — шепчу я.
Потом еще из моего сна: веранда, гвозди, трепыхающееся тело. Потом — прозрачная крышка саркофага, которая опускается на распростертое на мусорной куче хрупкое истерзанное тело двадцатипятилетней девушки, которая мне доверилась. Как ей там было тесно... Как ей там было тесно...
Лица подменяют друг друга, наползают одно на другое, совмещаются. Я запутался. Агнешка становится подлинной Девой Марией — а после Аннели, черты Аннели превращаются в черты моей матери, которые я не вспоминаю никогда, но никогда не забывал...
— Я запутался...
И тут Дева Мария делает странное, запретное: прижимает меня к своей нагой груди, прячет мое лицо в свою ложбинку, и проводит пальцами по моим волосам. Меня пронизывает ток. На самом моем дне, утопленное в дегте, лежит что-то блестящее. Деготь закручивается тягучей воронкой, и это блестящее на мгновенье проглядывает...
— Ты плачешь, — говорит Дева Мария.
На этот раз я не спорю.
Меня будто сводит судорогой, что-то рвется из меня наружу, издавая не то хрип, не то вой. Я зарываюсь глубже в нее, тону в горячих слезах, обнимаю ее так сильно, что она стонет.
— Шлюха... — шепчу я. — Если ты так ему верила... Зачем ты тогда... Зачем?
— Кому верила? — спрашивает Агнешка где-то далеко. — С кем ты говоришь?
— Он предал тебя, а ты предала меня... — всхлипываю я. — Какая же ты шлюха, мама...
Но она не злится на меня, а только гладит по голове, гладит — и яд выходит через мои глаза, через мой рот, и я освобождаюсь, и вдыхаю легко, и становлюсь невесомым, словно мои легкие были наполнены слезами и не давали дышать, и тянули в омут...
И четыре лица, сошедшихся в одном, разлепляются, распадаются.
Аннели больше не моя мать. Агнешка больше не Дева Мария.
— Спасибо, — говорю я ей.
— Ты прости меня. Ты... Ты все же хороший человек, — отзывается Агнешка. — Но мозги у тебя набекрень.
Она целует меня в лоб, и в месте ее поцелуя зажигается солнце.
Девушка с косо отстриженной челкой, с истерзанными запястьями и изодранной спиной улыбается мне из-под крышки хрустальной гробницы.
Все кончено.
— Мне пора, — я целую ее в щеку и встаю, утирая рукавом сопли.
— Я не очень поняла, что тут случилось, но приходи еще, — хмыкает она.
— Ты меня подлечила, — говорю я. — Теперь у меня хватит сил.
— На что?
Задергиваю за собой занавес и иду на ресепшен.
Плачу за два часа вместо одного.
— Дева Мария сделала для вас нечто особенное? — понимающе улыбается метрдотель.
— Сотворила чудо, — улыбаюсь ему в ответ я.
Я выхожу под черное зеркальное небо, заместившее то, на котором прежние прихожане этого собора высматривали среди облаков бога. Ангелы и горгульи, святые и чудовища, Иисус и богоматерь провожают меня каменными взглядами со своих мест на фасаде клуба «Фетиш», как бы говоря «Спасибо за пожертвование».
Набираю Шрейеру. Он отвечает сразу.
— Где ты был?
— В публичном доме.
— Неужели до такой степени... — бурчит он. — Я же советовал тебе таблетки безмятежности!
— Я думаю об этом.
— Ладно... Я получил видео. Хорошо сработано. Это одно из ваших мест?
Я жму плечами. Нет никакой необходимости тебе знать, где это.
— Для тебя есть еще кое-какое дело.
Он не интересуется тем, почему я увел Аннели из квартиры, он будто бы ничего не знает о наших заплатанных гостях и не собирается выслушивать, как мне далось ее убийство. Она измельчена и несется по трубам, значит, все в норме.
— Я сутки не спал.
— Ну так выспись, — недовольно говорит Шрейер. — Потому что работа ответственная.
И пропадает.
А я лечу над мостовой, почти не касаясь булыжников ногами, лечу мимо окон-сцен, мимо людей, запершихся за дверями всевозможно вообразимых борделей, раскручивающих там при помощи других людей пружинки своих комплексов, холящих места криво сросшихся давних переломов. Я получил то, что хотел. Пусть и они получат.
Вызвав лифт, в последний раз оглядываюсь на Мюнстер.
Я пришел сюда, чтобы здешние лекари излечили меня от обсессии. Чтобы пригасили мою похоть и дали мне чистоту мысли.
Мне нельзя было сделать это с Аннели — и я думал, что смогу заменить ее любым говорящим манекеном.
Но все случилось не так, как я хотел.
Вот и лифт.
Я боюсь, что заряд решимости иссякнет, прежде чем я успею все сделать. Но его хватает как раз. Я чувствую то самое облегчение, которого искал. И сомнение в том, что я все сделал правильно, отступило.
В центре утилизации вторсырья за мое отсутствие не произошло никаких изменений. Суетятся роботы, прирастают и убывают горы отходов, гудят саркофаги, перемалывая на атомы все лишнее, что оставляет после себя человечество.
Приближаюсь к самому дальнему из них. Его крышка поднята.
Становлюсь перед саркофагом на колени. Отключаю выставленный на таймер отложенный запуск. Оставался еще примерно час. Столько я дал себе времени, чтобы одуматься.
Я отправился в чучело собора молить о решимости не возвращаться сюда. Оставить все, как есть. Избавиться от телесной прихоти. Перетерпеть. Дождаться, пока таймер сработает и все наладится само.
Но дело было не в желании. Не только в нем.
Просто я представил себе, как ей будет тесно там, под закрытой крышкой...
Просто я не смог разобрать на атомы ее красоту.
Я нагибаюсь к Аннели и целую ее в губы.
Снотворное должно действовать еще час, но она вздрагивает и открывает глаза.

— «Брухо Вьехо» есть?
— Из текил у нас «Золотой Идол» и «Франсиско де Орелльяна», — поджимает губы официант.
Бутылка каждой — как мое месячное жалование.
— «Идол». Дабл-шот, — киваю я.
— А вам, мадемуазель? Сегодня у нас, как видите, колониальная тема, и я рекомендовал бы попробовать южноафриканские красные вина.
Горячий ветер сечет белыми песчинками лицо — пахнет пряностями, небо закрашено ало-желтым, поводят ветвями черные на оранжевом фоне раскидистые деревья, и спешит окунуться в надвигающуюся тьму стадо рогатых антилоп — не зная, что спешить некуда. Парусиновый навес, натянутый над нашими головами, надувается и хлопает на турбовентиляторном ветре, укрывая нас от проекционного солнца.
«Кафе Терра», тысяча двухсотый ярус, башня «Млечный путь». Наверное, самый дорогой ресторан из всех, в которых мне доводилось бывать.
Но ведь и случай торжественный.
— Мне просто воду. Из-под крана, — говорит Эллен.
— Разумеется, — сгибается официант и пропадает.
Эллен в темных очках-авиаторах, медовые волосы подняты коком на лбу и собраны в хвост на затылке. На ней куртка с поднятым воротником, штаны с карманами и нарочито грубые шнурованные ботинки. Кажется, она знала, какая в «Кафе Терра» сегодня тема.
— Эти животные... — обратившись ко мне своим идеальным профилем, она смотрит вправо, в саванну. — Их ведь на самом деле давно нет. Ни одного из них.
В полусотне метров от нас останавливается семейство жирафов. Родители объедают ветки акации, детеныш трется мягкими рожками о задние ноги матери.
— Саванны этой тоже нет, — я любезно поддерживаю разговор. — Или раскопана, или застроена.
— А мы с вами смотрим прямую трансляцию из прошлого... — она запускает как юлу латунный маленький портсигар.
— Вообще, это запись, сделанная панорамными камерами, — на всякий случай уточняю я.
— Вы не поэт.
— Я точно не поэт, — улыбаюсь ей я.
— Не знаю, видели ли вы когда-нибудь жуков в янтаре? — Эллен открывает портсигар, извлекает одну из своих черных сигарет. — Букашки попадали в свежую смолу в доисторические времена, а потом смола твердела и... У меня когда-то был такое янтарное полушарье, а в нем — бабочка со слипшимися крыльями. Когда-то в детстве.
— Скажете, что саванна вокруг — как огромный кусок янтаря, в котором застряли на долгую вечность все эти несчастные твари? — киваю я на маленького жирафа, который резвится, задирает отца, бодается с его ногами; тот даже не слышит, что происходит внизу.
— Нет, — она затягивается. — Они ведь как бы снаружи этого полушарья. Внутри — мы.
Официант приносит мне мой дабл, ей — стакан с водой из-под крана. Эллен бросает в него щипчиками куски льда, наблюдает за тем, как они плавятся.
— А вы боитесь старости? — я проглатываю половину «Идола».
Она тянет воду через соломинку, смотрит на меня невидимыми глазами из-за своих девчоночьих клубных очков.
— Нет.
— Сколько вам лет? — спрашиваю я.
Она жмет плечами.
— Сколько вам лет, Эллен?
— Двадцать. Нам ведь всем двадцать, разве нет?
— Не всем, — говорю я.
— Вы за этим меня хотели увидеть? — она раздраженно отставляет стакан в сторону, поднимается.
— Нет, — я сжимаю кулаки. — Не за этим. Знаете, я тут встречался с вашим мужем...
Перед тем, как войти к Эриху Шрейеру, я рассасываю таблетку успокоительного.
А пока она не подействовала, унимаю тремор мантрой собственного сочинения.
Слабак. Слабак. Слабак. Ничтожество. Ничтожество. Ничтожество.
Жалкий безвольный идиот, говорю я себе.
Вытягиваю перед собой руки, медленно выдыхаю. Кажется, они не дрожат.
Тогда только я вызываю лифт.
Обычный небоскреб, уровнем выше — производство вживляемых чипов, уровнем ниже — представительство корпорации, торгующей водорослями и планктонной пастой. Вокруг офиса Шрейера — тьма других офисов: адвокаты, бухгалтеры, налоговые консультанты, черт знает что. На его двери написано просто: «Э. Шрейер». Возможно, продавец пищевых добавок, возможно, нотариус.
Сперва приемная: некрасивая секретарша и композитные хризантемы. Дальше дверь — как бы в сортир. За ней — пятеро сотрудников безопасности и буфер-сканер. Пока система проверяет меня на взрывчатку, оружие, радиоактивные вещества и соли тяжелых металлов, я торчу в тесной герметичной клетке. Сканер всасывает воздух, тикает рентген, стены давят меня. Жду, жду, молчу, потею, потею.
Наконец загорается зеленый свет, барьер поднимается, я могу идти дальше.
Шрейер ждет меня.
На весь огромный кабинет мебели — стол и два стула. Самые простые, в любой забегаловке они смотрелись бы на своем месте. Но это не скромность, это изысканная расточительность. Использовать лишь два из ста квадратных метров, а прочее обставить бесценной пустотой — это ли не шик?
Из четырех стен две — стеклянные, и вид из них открывается на великолепный «Пантеон», башню, целиком принадлежащую Партии Бессмертия: неохватная «мраморная» колонна, возносящаяся на две тысячи метров и увенчанная репликой Акрополя. Там проходят ежегодные съезды, там находятся штаб-квартиры всех партийных бонз, туда приезжают на поклон за поддержкой Партии политики любых мастей со всего континента. Но Шрейер по какой-то причине предпочитает любоваться на «Пантеон» со стороны.
На остальных двух стенах — проекции новостей, репортажей, графики. По центральному экрану шествует набриолиненный красавец-брюнет с подстриженными усами и телегеничными морщинками на лбу.
Застываю на пороге. Стараюсь унять сердце.
Но если сенатор и следит за мной, если и знает, что у меня на уме, вида он не подает. Как ни в чем не бывало машет рукой на стул: «Садись!» — его больше интересуют новости.
«...начинается в следующую субботу. Теодор Мендес намеревается встретиться с лидерами единой Европы и выступить с речью в парламенте. Визит президента Панамерики посвящен прежде всего проблемам перенаселения и борьбы с нелегальной иммиграцией в государства глобального Запада. Мендес, поп-либертарианец по убеждениям, известен своим критическим отношением к Закону о Выборе...»
— Янки будут учить нас жизни! — фыркает Шрейер. — «Критическим отношением»! Либеральный фашист, вот он кто. Только что пропихнул через Конгресс акт об ужесточении квотирования. Начальные ставки на аукционах увеличатся на двадцать процентов!
«Напомним, что принятая в Панамерике система наделения бессмертием — так называемые «золотые квоты» — в корне отличается от европейской. Начиная с две тысячи четырехсотого года всеобщая вакцинация населения от старения была прекращена. Число вакцинированных было твердо зафиксировано на отметке в сто один миллиард восемьсот шестьдесят миллионов триста тысяч сто сорок восемь человек. Каждый год в результате насильственных смертей и самоубийств освобождается некоторое количество квот на вакцинацию — и эти квоты, по очевидным причинам называемые «золотыми», продаются на специальных государственных аукционах».
Я смотрю не на экраны, не на диктора, разжевывающего и без того известные детали панамериканской системы поп-контроля. Я настороженно наблюдаю за Шрейером.
— И угадайте-ка, кому эти квоты достаются? — он щелкает пальцами. — Всем Панaмом управляют двадцать тысяч семей. И они-то могут плодиться сколько угодно. Зачем, по-твоему, задирать входной барьер на участие в аукционах? Чтобы бедняки даже носа туда не совали, не портили воздух богатеям. Потому что выиграть-то у них шансов, разумеется, в любом случае — никаких. Чем, скажи мне, они лучше русских, которых распекают во всех медиа каждый божий день?
Оболочка Эриха Шрейера та же, что и прежде — загар тона обложечных селебрити, подсознательно внушающий доверие тембр диктора новостей, безупречный светлый костюм, во внутренних карманах которого лежит весь мир. Но через пластмассовый глянец сегодня проглядывается что-то... Он ведет себя со мной свободней, и я начинаю подозревать, не человек ли Шрейер на самом деле. Будто, убив для него Аннели, я стал ему родным... Или подчиненным. Он ведь думает, что я ее убил?
— Но ведь этой системе сто лет, — произношу я осторожно. — Ничего нового.
— А зачем, ты думаешь, этот пижон к нам едет?
«Визит Теда Мендеса предваряет его долгожданное выступление в Лиге Наций, где он собирается вынести на голосование проект Декларации о Праве на жизнь, запрещающей превентивные меры контроля за численностью населения...» — объясняет мне за Шрейера репортер.
— Слышал? — Шрейер хлопает ладонью по столу. — Сами торгуют бессмертием только по платиновым клубным картам, а нас судят за то, что мы дали всем равные права. Аукционы... Да каждый такой аукцион — как полевой трибунал. Троих пощадят, а еще сотню — в расход. И это называется человеколюбием. Государство умывает руки и знай считает барыши, а граждане пускай сами грызутся за вакцину. А главное — американская мечта в действии. На бессмертие может накопить каждый, если будет достаточно упорен и талантлив!
На экранах появляется приглашенный аналитик, который напоминает, с каким небольшим перевесом избрали республиканца Мендеса, как просели его рейтинги с тех пор, как мало осталось до следующих выборов, и как он пытается поправить положение крестовым походом на Европу: его соперники-демократы не устают агитировать за социальное равенство по европейской модели.
Я смотрю, как аналитик шевелит губами, слежу краем глаза за Шрейером — он презрительно щурится, хлопает по столу ладонью...
Зачем я это сделал? Почему оставил ее в живых? Почему ослушался прямого приказа? Что перемкнуло во мне, что перегорело? Какой из моих блоков испорчен?
Ты поступил как слабак, говорю я себе.
Они не должны были выпускать тебя из интерната. Никогда.
Шрейер на секунду отвлекается от экранов — хочет что-то сказать. Я жду, что он спросит: «Кстати, помнишь, что случилось с Базилем? Я слышал, раньше у вас в десятке был такой...» Если он знает про меня все, должен знать и это.
Но, может, он знает про меня не все?
— Конечно, давать право на вечную жизнь всем родившимся — бесчеловечно, а обрекать каждого, у кого годовой доход меньше миллиона — воплощенное великодушие...
«Теодор Мендес неоднократно критиковал Европейскую Партию Бессмертия за жесткость мер, которых она требует для контроля за населенностью. По мнению Мендеса, эти бесчеловечные меры разрушают институт семьи и подрывают основы общества...»
— А сколько в Панаме семей, в которых отец — или мать — родились до четырехсотого года, да так и живут молодыми, а все дети, да и правнуки давно поседели и скончались? — спрашивает у бубнящего аналитика сенатор. — И вот они копят, копят всю свою вечность на то, чтобы любимая праправнучка могла не бояться смерти — а мистер Мендес возьми да и подними им барьер на двадцать процентов. Придется теперь девчонке все же становиться старухой и помирать. Ничего, может вечно юный прапрадед покончит с собой от расстройства, и освободит квоту тем, кто может себе ее позволить. Прекрасная, справедливая система. Образец для подражания.
«Известно высказывание президента Мендеса о том, что коалиция Народной демократической партии Европы Сальвадора Карвальо с Партией Бессмертия является самым большим позором Старого Света со времен попыток замирения с Адольфом Гитлером...»
— Вуаля! — взрывается Шрейер. — Вот к этому мы, как всегда, и приходим! К Гитлеру! К нацистам! Идиоты! Почему не к Барбароссе?!
Он в ноль выкручивает громкость и еще минуту, что-то яростно бормоча, расхаживает по кабинету. Онемевшие экраны показывают Байкостал Сити, возведенный циклопами единый город-здание, простирающийся от Западного побережья до Восточного. Потом — знаменитую Стофутовую Стену, которой Панам отгородился от незаживающего нарыва переполненной и раздираемой криминальными войнами Южной Америки. Еще кадры — орды иммигрантов идут на приступ Стены. Потом ее защитники: на весь периметр — двадцать человек персонала. Остальное делают роботы: предупреждают, отпугивают, находят, убивают, сжигают трупы и развеивают пепел по ветру. Роботы, определенно, делают нашу жизнь удобней.
Наконец Шрейер барабанит пальцами по столу.
— Нам, конечно, нужен правильный информационный фон для визита Его Святейшества, — он кивает на по-рыбьи раззевающего рот Мендеса. — Поэтому то, что ты сделаешь, ты должен будешь сделать аккуратно.
Я киваю. Именно должен.
Должен ему и должен себе.
Улыбаюсь. Но он понимает мою улыбку превратно.
— Ян! Тебе было обещано повышение, помнишь? И поручено важное дело. Ты оступился, постарался исправиться, правда, но неужели все, чего ты теперь хочешь — это вернуться обратно в свою десятку помощником звеньевого?
Жму плечами.
Я жалею о том, что сделал. О том, чего не сделал. Это был миг слабости, и он не должен повториться никогда. Все, чего я хочу — это чтобы я не оказался вчера таким слабым, ничтожным, никчемным идиотом. Все, чего я хочу — это чтобы вчера я убил Аннели.
— Поэтому я тебя и вызвал. Твой личный файл, вместо того, чтобы отправиться в топку, теперь снова у меня.
— Я готов.
— Мы нашли подпольную лабораторию, в которой создали лекарство от ваших инъекций.
— Что?!
— Именно. Какие-то умники научились блокировать акселератор. Препарат, который сдерживает действие вируса. Пока уколотые принимают его — стареть они не будут.
— Наверняка обычные шарлатаны! Сколько таких...
— Этот человек — лауреат Нобелевской премии.
— Но я думал, министерство берет всех вирусологов под колпак с самой школьной скамьи...
— Мы сейчас говорим не о том, как все произошло, а о том, как это исправить. Ты ведь понимаешь, чем это чревато, а?
— Если эта дрянь действительно работает... — я пытаюсь вообразить, что такое действительно возможно: это настоящий кошмар.
— Они выбросят препарат на черный рынок. Уколотых — миллионы, и каждому будет нужна доза в неделю... Или в день! Это как героин, страшнее героина! Как мы сможем помешать уколотым покупать препарат?
— Изоляция?
— Загнать их в концлагеря? Беринга и так сравнивают с Гитлером, ты сам слышал. А иначе — никак. Туда придут такие деньги, с которыми мы не сможем бороться. Все нелегальные фармацевты и прочие алхимики, которые сейчас варят себе плацебо, станут дилерской сетью этих умников. Мафия будет их охранять. А каждый из уколотых превратится в их послушного раба, потому что жить будет от дозы до дозы. Да что там мафия... Если эта химия попадет в лапы Партии жизни...
— Но ведь будут наверняка созданы новые акселераторы!
— И Бессмертным придется заново отыскивать и колоть миллионы человек, — возражает Шрейер. — Ты сам знаешь, Фаланга не так велика... Ресурса едва хватает, чтобы справляться с поиском новых нарушителей. Коллапс, Ян, вот что нас ждет. Но самое страшное...
— Никто больше не будет нас бояться, — понимаю я.
Он кивает.
— Многих от размножения удерживает только неотвратимость наказания. Если колеблющиеся узнают, что есть средство...
Шрейер делает глубокий вдох, вжимает указательные пальцы в виски, словно боится, что без этого его лицо поползет по швам, что отклеится от кожи и слезет его обычная доброжелательно-безразличная маска.
— Все рухнет, Ян. Люди пережрут друг друга. Думаешь, кому-то интересно, какой у Европы энергодефицит или сколько еще ртов выдержат саранчовые фермы? Интересно, начиная с какой цены на пачку водорослей люди начнут бунтовать? В начале двадцать первого века население всей Земли было всего семь миллиардов человек. К концу столетия — сорок миллиардов. И потом оно удваивалось каждые тридцать лет — пока за одну жизнь не обязали платить одной жизнью. Уменьши эту цену на грош — и все. А если нас станет хотя бы на треть больше... Дефицит, голод, гражданские войны... Но люди не хотят ничего понимать, им плевать на экономику и на экологию, им лень и страшно думать. Они хотят бесконечно жрать и бесконечно трахаться. Их можно только запугать. Ночные штурмы, Бессмертные, маски, принудительные аборты, инъекции, старость, позор, смерть...
— Интернаты, — добавляю я.
— Интернаты, — соглашается Шрейер. — Послушай. Я — романтик. Хотел бы быть романтиком. Хотел бы, чтобы мы все были существами высшего порядка. Свободными от суеты, от глупости, от низменных инстинктов. Я хотел бы, чтобы мы были достойны вечности. Нам нужен новый уровень сознания! Мы не можем оставаться обезьянами, свиньями. И я пытаюсь обращаться к людям, обращаться с людьми, как с равными. Но что мне делать, если они ведут себя, как скоты?!
Сенатор открывает в столе маленький ящичек. Достает блестящую фляжку, прикладывается к ней. Мне не предлагает.
— Так что это за лаборатория? — спрашиваю я.
Он внимательно смотрит на меня, кивает.
— Место для нас не очень удачное, это самый центр резервации. Если делать все официально, потребуется масса согласований, утечек не избежать. Представь, что туда попадет пресса, что полиции придется сражаться с этими кадаврами в прямом эфире... Наши позиции такое не укрепит. И все под официальный визит Мендеса. А ждать, пока его святейшество соизволят покинуть Европу, мы не можем: счет идет на часы. Как только этот препарат попадет на черный рынок, все будет кончено. Обратно в бутылку джина не запихнуть. Нужен блиц. Зачистка. Одно звено Бессмертных, хирургическая точность. Уничтожить лабораторию, все оборудование, все опытные образцы. Никаких журналистов, никаких акций протеста, не дать им даже понять, что случилось. Даже Бессмертные не должны знать, что делают — никто, кроме тебя. Ученых доставить мне в целости и сохранности. Пускай работают на нас.
— Они там одни? Эти ученые?
Он вопросительно хмурится — потом понимает, о чем я.
— Ты про Партию жизни? Неизвестно. О лаборатории нам донесли только вчера, у нас не было возможности все проверить. Но даже если террористы еще туда не добрались, это вопрос времени. В общем, провернуть все это надо прямо сейчас. Готов?
После того, что я сделал с Аннели, я чувствую себя измазанным в дерьме. Я воняю и я хочу отчиститься, мне надо, мне необходимо искупить то, что я сделал... То, что я делаю. И вот — шанс. Но вместо того, чтобы просто сказать «Так точно!», я говорю:
— У меня есть условие.
— Условие?
— Я не хочу, чтобы мне снова подсунули каких-нибудь психопатов. С меня и так хватит стресса. Я не очень к нему устойчив, как мы выяснили в прошлый раз. Я пойду со своим звеном.
Он убирает фляжку в стол, распрямляется. Поднимает бровь.
— Как скажешь.
Выйдя от Шрейера, я вызываю Эла.
— Я все знаю, — говорит он севшим голосом. — Поздравляю.
— С чем это? — мне правда интересно.
— С назначением. C тем, что подсидел меня.
— Что? Послушай, Эл, я не...
— Ладно, давай, — перебивает он меня. — Мне еще всех вызвать надо.
Эл отключается, а Шрейер больше не отвечает. Так что свои вопросы я могу засунуть себе куда поглубже.
Ничего, когда все будет сделано, я верну Эла на его место. Я не просил этого повышения. Не такого. Не так.
Через полтора часа мы все собираемся на станции тубы в башне «Алькасар». Протягиваю Элу руку, но он этого не замечает.
— Парни, — говорит он. — Теперь наш звеньевой — Ян. Приказ командования. Такие дела. Держи, Ян. Теперь ты на раздаче.
И он протягивает мне закрытый на замок плоский контейнер с инъектором. Делать нарушителям уколы акселератора может только звеньевой.
Так что теперь я совсем взрослый.
Разговорчики стихают. И Даниэль, который раскрывал мне уже свои медвежьи объятья со словами «Ты где был, ушлепок?», притормаживает, и Виктор удивленно таращится на меня, а Бернар ухмыляется: «О, рокировочка!»
— Кого назначишь правой рукой? — Эл глядит мимо, словно ему плевать.
— Тебя.
Он коротко кивает — само собой разумеется.
— Ну? — щурится он. — Что там за задание? Меня как-то, знаете ли, в известность не поставили.
Выступаю вперед.
— Сегодня разбираемся со старичьем, — разъясняю я всем. — В этой башне — здоровенная резервация, пятьдесят ярусов. На четыреста одиннадцатом уровне — благотворительная фабрика... — сверяюсь с коммуникатором, — по ручному производству елочных игрушек.
Бернар ржет.
— И там наша цель. Нелегальная лаборатория. Наша задача — все разнести к чертям, а яйцеголовых, которые там окопались, скрутить.
— Это вам не инъекции бабам чпокать, — Виктор показывает большой палец.
— И что за лаборатория? — интересуется Эл.
— Биологическая. Что-то с вирусами связано.
— Ого! А костюмов защиты нам не положено? Респираторов на худой конец?
— Нет. Никаких проблем там не будет, — заявляю я.
Плевать, что Шрейер не предложил мне гребаные костюмы. Я хочу, чтобы это было опасно.
— Ты должен был спросить про защиту, — настаивает Эл. — Кто бы там ни отправил тебя это провернуть, жизни ребят важней.
Даниэль складывает руки на своей бочкообразной груди, цыкает. Алекс дергает головой раз, другой — соглашается. Антон и Бенедикт молчат, вслушиваются.
— Говорю тебе, все нормально.
— Кто это был?
— Что?
— Кто это был? Кто нас туда посылает?
Теперь даже Виктор и Бернар завязывают со своими хохмами, вострят уши, хоть улыбочки пока еще и при них.
— Слушай, Эл... Какая разница?
— Такая, что наше дело — поп-контроль. И точка. Для остального полиция есть, спецслужбы. И если кто-то пытается использовать меня не по назначению, я бы лично ему задал вопрос, почему именно я должен это делать? И для кого? Для государства ли? Подпольные лаборатории... С каких это вообще пор Бессмертные занимаются таким?
Звено мнется, никто не встрянет, никто не вступится за меня. Даниэль насупился, Бернар сосредоточенно что-то гоняет языком во рту. Эл ждет ответа.
— С самого начала, Эл, — улыбаюсь ему я. — Просто тебя раньше в курс не ставили. Знали, что ты плохо спать будешь.
— Да пошел ты!
Виктор отворачивается и хихикает, Бернар скалит зубы.
— Все, хватит болтать, — говорю я. — Лифт пришел.
Когда я набираю на пульте цифры «411», лифт честно предупреждает меня: «Вы собираетесь посетить специальную зону для людей пожилого возраста. Подтвердите?»
— Маски только перед самым штурмом надеваем, — на всякий случай напоминаю я. — Там полно уколотых, а они нас, сами знаете, не любят.
— Спасибо, просветил, — кланяется Эл.
А я кланяюсь сенатору Шрейеру за то, как он все прекрасно устроил.
Кабина ползет вниз еле-еле, будто в жадной спешке не прожеванный кусок по дряблому и сухому стариковскому пищеводу.
Потом двери открываются, и мы оказываемся в последнем из кругов Босхова ада.
Четыреста одиннадцатый уровень кишит медленными сморщенными согнутыми существами; покрытыми родинками, с обесцвеченными ломкими волосами, с отстающей от костей плотью и с отстающей от плоти кожей; с огромным трудом ворочающими своими отекшими ногами наперекор смерти или недостаточно живые, чтобы ходить самостоятельно — и разъезжающими на персональных электрифицированных катафалках...
— Йи-ха! — говорит Бернар.
Тут смрадно. Тут пахнет старостью: скорой смертью.
Это сильный запах, люди чувствуют его, как акулы в океане слышат едва капнувшую кровь. Чувствуют, и боятся, и спешат заглушить. Достаточно один раз увидеть старика, чтобы он провонял тебя смертью насквозь.
Не знаю, кто придумал отправлять старичье в резервации.
Нам неприятно думать, что мы с ними — один биологический вид, а им неприятно понимать, что мы так думаем. Скорее всего, они стали прятаться от нас сами. Им уютней друг с другом — глядясь в чужие морщины, как в отражение своих, они не кажутся себе извращенцами, отклонением, танатофилами. Вот, говорят они себе, я такой же, как другие. Я все сделал правильно.
А мы стараемся притворяться, что этих гетто вовсе не существует.
Конечно, пожилые могут появляться и за пределами резерваций, и никто не станет бить их или унижать публично, только потому что они омерзительно выглядят. Но даже в самой густой давке вокруг старика — пусто. Все от него шарахаются, а самые отчаянные — может, те, у кого родители от старости умерли — бесконтактно шлют ему милостыню.
Я сам считаю, что нельзя им запрещать соваться в общественные места. Мы же все-таки в Европе, и они — такие же граждане, как мы. Но, будь моя воля, я бы ввел закон, который бы их обязал носить при себе устройство, издающее какой-нибудь предупреждающий сигнал. Просто чтобы нормальные люди, с аллергией на старость, могли заранее убраться куда-нибудь подальше и не портить себе день.
Старики тут пытаются наладить какой-то быт, прикинуться, будто бы им завтра не помирать: магазины, врачебные кабинеты, спальные блоки, кинозалы, дорожки с вечнозелеными композитными растениями в пыли. Но среди нескончаемых вывесок ревматологов, геронтологов, кардиологов, онкологов и зубных протезистов — там и сям черные таблички ритуальных услуг. С кардиологом я в жизни своей не встречался, рак официально побежден сто пятьдесят лет назад, но у старичья с этим вечно проблемы; а вот похоронную контору вне резерваций вообще не найти.
— Похоже на город, захваченный зомби, а? — Вик пихает локтем Бернара.
Похоже.
Только мы, не зараженные старостью, не разлагающиеся заживо, не нужны этим зомбакам. Эти создания слишком заняты тем, чтобы не рассыпаться в пыль — им дела нет до десятерых юнцов. Старики слоняются бесцельно, пустые глаза слезятся, челюсти отваливаются. Неряшливые, перепачканные едой, болезненно рассеянные. У многих к последним годам жизни сдает память и отказывает рассудок. Ими занимаются кое-как, по мере сил: социальные службы комплектуются из местных же, тех, что сохранился получше. Смертным понятней проблемы смертных.
— Смотри, какая красавица пошла, — Бернар тычет пальцем во всклокоченную седую старуху с огромной отвисшей грудью, подмигивает ушастому Бенедикту. — Могу спорить, в интернате ты бы и на такую накинулся!
— Почему тут детей нет? — спрашивает у меня шпаненок-стажер. — Я думал, они здесь вместе... Родители и дети.
— Семьи отдельно, на другом уровне, — объясняю я. — Тут терминальные, они не нужны никому. Тебя как зовут?
— Черт! — он вздрагивает, когда какой-то слюнявый маразматик хватает его за рукав.
Мимо катится электрокар с мигалкой, красным крестом и двумя черными мешками в кузове. Останавливается, уткнувшись в толпу. Старухи начинают причитать, охать, креститься. Пацан говорит свое какое-то имя, но у меня от этого зрелища словно уши заложило.
Я сплевываю на пол. Вот где гребаным ловцам душ раздолье.
Алекс — тот, что вечно на нервах — бормочет себе под нос:
— И чего я думал, что для них десять лет как один день пролетают?
Десять лет — столько им официально остается жить после нашей инъекции. Но это средняя цифра. Кого-то акселератор старости разрушит быстрей, кто-то сумеет сопротивляться ему чуть дольше. Но результат один: ускоренное дряхление, слабоумие, недержание, забытье и смерть.
Общество не может терпеть, пока сделавший неверный Выбор состарится естественно; кроме того, если его просто лишить бессмертия, за несколько десятков лет он успеет еще наплодить столько ублюдков, что вся наша работа — коту под хвост. Поэтому мы колем не противовирусный препарат, а другой вирус, акселератор. Он вызывает бесплодие и за несколько лет полностью стесывает теломеры ДНК. Старость сжирает уколотого быстро, страшно и наглядно — в поучение другим. И спасения от акселератора нет... До сих пор не было.
Четыреста одиннадцатый ярус оформлен как квартал, возведенный в павильоне для киносъемок фильма о каком-то никогда не существовавшем идиллическом городке. Только вот трехэтажные дома, когда-то раскрашенные в разные цвета, давно потускнели. И все упираются в серый потолок; вместо неба — сплетение вентиляционных и канализационных труб. Наверное, когда-то эту резервацию задумывали как натужно-веселенький дом престарелых, куда детям было бы незазорно сдавать своих родителей. Но в какой-то момент необходимость продавать свои услуги у устроителей этого уютного городка отпала; родителям просто стало некуда больше деваться. Да никто из них и не задерживался тут слишком надолго, так чтобы такой ремонт успел им наскучить.
По указанию коммуникатора заходим в одно из фальш-зданий.
Длинный коридор, низкие перекрытия, один светодиод на бесконечный коридор. Вентиляция работает с грехом пополам, течение воздуха сквозь решетки кондиционеров — как дыхание умирающего от пневмонии, такое же слабое, жаркое и затхлое. Адова духотища. Во мраке теснятся вдоль прохода в просиженных креслах люди-тени, отрываются от пластиковых вееров, только чтобы схватиться за сердце. Они плавают в кислом поту, не могут выгрести из него, чтобы осмотреться по сторонам, так что мы маршируем невидимо.
И вдруг шелестит:
— Кто это? Ты видишь, Джакомо? Кто это идет?
Потом второй голос — через задержку, словно эти двое не в одной комнате находятся, а на разных континентах, и сообщаются друг с другом при помощи медного телеграфного кабеля, проложенного тысячу лет назад по дну океана.
— А? Где? Где?
— Вон они, идут... Посмотри, как они идут, Джакомо! Это не такие старики, как мы... Это молодые люди.
— Это не люди, Мануэла. Это не люди, это ангелы смерти пришли за тобой.
— Старый кретин! Это люди, молодые мужчины!
— Замолчи, карга! Заткнись, а то они тебя услышат и заберут с собой...
— Им тут не место, Джакомо... Что они тут делают?
— Я тоже их вижу, Джакомо! Это не ангелы!
— А я говорю, я вижу сияние! Они светятся!
— Это все твоя катаракта, балбес! Обычные люди! Куда они идут?
— Ты их тоже видишь, Рихард? Им ведь тут не место, не место среди нас, да?
— А вдруг они идут к Беатрис? Вдруг их послали к Беатрис?
— Мы должны предупредить ее! Мы должны...
— Да, мы ведь сторожим вход... Не забудьте это... Надо поднять тревогу!
— Чего поднять? Что ты говоришь?
— Не слушай его, звони ей скорее!
— Алло... Беатрис? Где Беатрис?
— Что за Беатрис? — возникает у моего уха Эл, пробуждая меня от чужого сна. — Надеюсь, мы не ее идем брать, а?
— Заткни их! — ору я ему. — Вик, Эл!
— Есть!
— Беатрис... К тебе идут... — успевает прошептать кто-то; потом слышится грохот, стоны. Мне ничего не видно. Нет времени смотреть.
— Вперед! Бегом, вашу мать! Они туда звонили! К ней!
Вспыхивают фонари на миллион свечей каждый, в ярко-белых лучах кукожатся и шипят в бессильной злобе анимированные тряпичные ворохи.
— Бегом!!! — ретранслирует мое слово Эл, моя правая рука.
Грохочут по кафельному полу наши бутсы. Мы скреплены заданием, мы снова одно целое. Не люди, а ударное орудие, таран, и я — его окованный железом наконечник.
Вылетают преграждающие нам путь двери, опрокидываются кверху колесиками какие-то будущие или сущие мертвецы в своих инвалидных креслах, вперед нас летит по живой цепи испуганный шепот, прерываясь в тех местах, где очередное ее звено оказывается как ржавчиной изъедено Паркинсоном или Альцгеймером.
И вот наша цель, этот гребаный фарс, фабрика елочных игрушек.
Баннер над входом: «Тот самый дух Рождества». Картинка — старики, молодые и дети сидят в обнимку на диване, сзади — елка в шарах и гирляндах. Противоестественная чушь; уверен, это пропагандисты Партии жизни пытаются приспособить нашу главную неделю распродаж под свои грязные нужды.
Двери даже не заперты.
Внутри цехов вяло копошатся перекореженные фигуры, симулируя труд. Что-то булькает, с кряхтением ползет куда-то конвейер, ахая и охая, тащат коробки со своим никому не нужным товарцем унылые недокормленные морлоки.
— Где она?!
Цех замирает, будто от моих слов тут всех разом разбил паралич.
— Где Беатрис?!
— Беатрис... Беатрис... Беатрис... — шуршит по углам.
— Хто-хто?! — визгливо переспрашивают меня.
— Всем к стене! — командует Эл.
— Вы тут, между прочим, поаккуратней, слышите, вы? — дребезжит, выползая на свет из-за груды коробок, какой-то гном с лысиной в пигментных пятнах. — У нас, между прочим, уникальное производство, да! Настоящие стеклянные игрушки, слышите? Не ваш паршивый композит, а стекло, и точно такое, как было семьсот лет назад! Так что вы со своей беготней не вздумайте...
Я нервно озираюсь по сторонам: не засада ли это? Могло ли нам повезти добраться сюда раньше боевиков Партии жизни? Вспоминаю их перекроенные хари; с ними схлестнуться будет совсем не то же самое, что раскидать назойливых стариков. Сказать нашим, чего им тут действительно опасаться? Сказать или у меня нет права?
— Эй-эй! — Бернар окорачивает гнома, намотав его бороду на кулак. — Спасибо, что просветил. Сейчас мы все тут переколотим, если ты не...
И вдруг — лязг, грохот...
— Сюда! — торжествующе кричит Виктор. — Сюда!
За занавесом из прозрачных пластиковых макарон — просторная зала. Тут есть и еще одна дверь, тяжелая и герметичная, только ее ревматически заклинило. Те, кто прятался внутри, так и не сумев ее закрыть, просто замерли, надеясь, что мы их не найдем. Но мы всегда всех находим.
— Маски! — приказываю я. — Забудь о смерти!
— Забудь о смерти! — отзываются хором девять глоток.
И в залу мы влетаем уже теми самыми ангелами, которыми увидел нас старый Джакомо своими прозревшими от катаракты глазами.
— Свет!
Внутри — столы, автоклавы, молекулярные принтеры, процессоры, системные блоки, стеллажи с запаянными колбами, пробирками — и все изношенное, засаленное, древнее. В дальнем углу прозрачный куб с дверью — герметичная камера для опытов с опасными вирусами.
А посередине этого музея — его хранители, жуткая и жалкая троица.
В кресле-каталке сидит оплетенный катетерами — будто сосуды наружу — умирающий старик; ноги его иссушены, руки висят плетьми, большая голова — плешь в тоненьких серебристых завитках — завалена вбок, лежит на подушке. Глаза полуприкрыты: веки слишком тяжелые, чтобы удерживать их поднятыми.
Рядом стоит скрюченный дед с тростью и волосами, крашенными в натужный блонд. Он выбрит, опрятен, щеголеват даже, но колени у него трясутся, да и рука, в которой зажата клюка, вся вибрирует.
А впереди, как будто пытаясь закрыть этих двоих собой, стоит, сунув руки в карман рабочего халата, высокая и прямая старуха. Раскосые глаза подведены, виски выбриты, седая грива откинута назад.
Вот и все защитники. Нет людей в плащах, лица которых мертвей наших масок. Нет Рокаморы и его подручных. Только эти трое, простая добыча.
Бессмертные уже заходят с обеих сторон к ним за спины.
— Беатрис Фукуяма 1Е? — спрашиваю я у раскосой, заранее зная ответ.
— Вон отсюда! — отвечает она. — Убирайтесь!
— Вы пойдете с нами. Эти двое... Ваши коллеги?
— Никуда она не пойдет! — ввязывается крашеный старикашка. — Не прикасайтесь к ней!
— Этих тоже забираем, — говорю я. — Громи тут все!
Подаю пример: сваливаю со стола молекулярный принтер, ударом бутсы крушу его, ломаю надвое.
Вытряхиваю из рюкзака десять банок спрея с краской. Поднеси зажигалку — получишь маленький огнемет.
— Что вы делаете?! — тонко вскрикивает старик с палкой.
— Все сжечь! — я щелкаю кнопкой.
И струя черной краски превращается в столп оранжевого пламени. Волшебство.
— Не смейте! — вопит крашеный старик, когда Виктор швыряет об стену компьютерный терминал.
— Зачем? Зачем вы это делаете?! Варвары! Негодяи! — хрипит старик.
Даниэль зажимает ему рот. Остальные разбирают баллончики.
— Бей пробирки! — приказываю я.
— Послушайте, вы, кретины! — резкий голос старухи.
Но никому дела до нее нет.
— Там вирусы! Смертельные вирусы! — и на этот раз ей удается завладеть нашим вниманием. — В этих контейнерах! Не притрагивайтесь к ним! Или мы все погибнем! Все!
— Бей гребаные пробирки! — повторяю я.
— Стой! — перебивает меня маска голосом Эла. — Погоди! Что за вирусы?
— Шанхайский грипп! Мутировавший шанхайский грипп! Окажется в воздухе — через полчаса вам конец! — старуха в упор, не мигая, смотрит на Эла.
— Что это за лаборатория?! — оборачивается ко мне тот. — А?!
— Я сказала! — за меня отвечает ему Беатрис Фукуяма. — Мы занимаемся особо опасными инфекциями!
— Она врет! Какого черта ты ее...
— Попробуйте! Давайте, попробуйте!
Звено застыло. Сквозь прорези в масках масляно от страха и сомнения смотрят восемь пар глаз — на меня, на Эла, на сумасшедшую старуху.
— Вирус шанхайского гриппа, штаммы «Xi-o» и «Xi-f», — чеканит Беатрис. — Температура сорок два градуса, отек легких, остановка сердца! Полчаса! Лекарств на данный момент не существует!
— Это правда, Семьсот Семнадцать? — спрашивает маска голосом Алекса.
— Нет!
— Откуда вам знать? — Беатрис делает шаг ко мне. — Что вам сказали те, кто вас сюда послал?
— Не твое дело, карга!
Я зачем-то выхватываю шокер, выставляю его вперед. Беатрис ниже меня на голову и вдвое легче, но она идет на меня уверенно, катя перед собой невидимую волну, и я расставляю ноги шире, чтобы меня не снесло этой волной.
— Не смей с ней так разговаривать! — крашеный собирался звучать решительно и угрожающе, но его надтреснутый высокий голос все портит.
— Зато это наше дело! — встревает Эл. — Что это за место, Ян?
— Заткнись, — предупреждаю я его.
— Отбой, ребята! — решает он. — Пока я сам не получу подтверждение этого задания...
— Там нет никакого гриппа! — ору я. — Они нашли лекарство от акса!
— Бред сумасшедшего, — спокойно возражает она. — Вы прекрасно знаете, что это невозможно. Отдайте мне этот ваш...
Зз...
Беатрис отлетает на пол, дергается.
— Нет! Нет! — дряхлый щеголь ковыляет к ней, растопыривает пальцы, расставляет руки. — Нет, нет, нет! Любимая, они...
— Лю-би-мая?! — гогочет кто-то голосом Бернара. — Старик, да куда тебе уже?!
— Упаковывай ее! — приказываю я.
Но никто не слушается меня, все, разинув рты, вперились в Эла.
Макаронный занавес приподнимается, и внутрь вползает занудный гном с пятнистой плешью — тот самый, что решил читать нам нотации о стеклянных игрушках.
— Все в порядке, Беатрис? — скрипит он. — Мы тут! Если что... Беатрис?!
— Убрать его!
— Они убили! Убили Беатрис! — воет плешивый.
За резиновой портьерой вяло суетятся тени: переполох на кладбище. Внутрь суются подагрически скрюченные пальцы, трясучие колени, шаркающие ступни, синюшные вены, дрожащие подбородки... У Беатрис Фукуямы не могло быть защитников более жалких и более бесполезных.
Но мой отряд, напуганный блефом старой ведьмы, словно обратился в соляные столпы. Надо их расколдовать.
И, подскочив к полке с колбами, я сметаю все на пол. Они валятся одна за другой, как домино, летят вниз и взрываются хрустальными брызгами, как брошенные на камень куски льда.
— Не делайте... Не делайте... — крашеный ведьмин ухажер пучит глаза, мотает головой. — Умоляю, не...
— Я сказал вам, это не опасно! — рычу я на своих. — Выполнять! Выполнять!!!
Старикан начинает расстегивать пуговицы на вороте своей рубашки, потом бросает это дело, берется за сердце, мычит что-то и сползает на пол.
— Что они разбили? — спрашивает у него гном. — Эдвард, что это?! Эдварду плохо!
Эл стоит, рассматривая разбившиеся сосуды, вытекшую из них бесцветную жидкость. Остальные глядят ему в рот; слишком долго он был нашим командиром.
— Вик! Виктор! Двести Двадцатый! Назначаю правой рукой! Эл, сдаешь полномочия!
— Сука ты! — отвечает он мне. — Как так выходит, что одни верой и правдой служат, шкурой рискуют, выкладываются по полной, и их задвигают, а другие хер знает чем занимаются, и нате — звеньевой?! А?! Никакой ты не звеньевой, понял?!
— Трибунал тебя ждет, паскуда! — кричу я ему.
Эл контужено прислушивается к моим словам. Остальные не шевелятся. Я рыщу взглядом по темным пустым глазницам. Где вы все?!
«Давай, Двести Двадцатый! Мы с тобой из одной грязи слеплены! Ты создал меня, я создал тебя!» — кричу я ему молча. И Двести Двадцатый слышит меня.
Один из Аполлонов отдает мне честь — заторможенно, неуверенно.
Но потом заваливает на пол целый стеллаж с пробирками — они из небьющегося материала — и принимается топтать их каблуками. Остальные тоже начинают шевелиться, словно проснувшись. Рушатся принтеры, искрят компьютеры, бьются колбы и контейнеры.
Трясущиеся работники игрушечного цеха все лезут внутрь — словно им не страшно подцепить шанхайский грипп, но это еще не значит, что Беатрис солгала. Старость — болезнь куда мучительная. Не за избавлением ли они стремятся?
— Беатрис! Беатрис! Они пришли за Беатрис!
— Убрать их! Вышвырнуть отсюда! И за дело!
Наконец начинается погром. Ходячих мертвецов оприходуют шокерами, тащат за ноги по полу — головы болтаются, подскакивают — вываливают наружу. Не знаю, как они выдержат разряд; наши сердца — резиновые, их — тряпичные, могут порваться. Но поздно уже переигрывать партию.
Крашеный старик сучит ногами по полу и замирает. Когда я наклоняюсь к нему, он уже не дышит. Я вцепляюсь ему в запястье, надеясь выловить под черепашьей кожей утопленную в холодном мясе пульсирующую жилку. Хлещу по щекам — но нет, он мертв, синеет. Наверное, сердце. Как с этим быть? Он не должен был умереть!
— Вставай! Вставай, развалюха!
Но ему конец — а я бессилен, когда нужно воскрешать людей. Фред из разноцветного мешка пытался мне это объяснить, но я все никак не хочу поверить.
— Сволочь! Сдох, сволочь!
Во всей этой суете Беатрис просыпается и садится на полу, моргает, а потом ползет куда-то, упрямая старуха. Мимо беснующихся масок, мимо бесстрастного и безразличного к нашему шабашу человека-растения во вьюнках катетеров и проводов — куда? Но нет времени ей заниматься сейчас — да и далеко ли она сбежит после удара шокером?
И пока мы курочим все их барахло, она добирается до прозрачной камеры в конце помещения, забивается в нее, шепчет что-то — и вход в камеру запечатывается, а она, приходя в себя, смотрит на нас оттуда, смотрит, смотрит... Без слез, без криков, оцепенело.
Виктор запаливает свой огнемет, плавит им переломанную технику, размолотое оборудование. Другие, хмельные адреналином и озверением, повторяют за ним.
— Выходите! — я стучу в стекло аквариума с Беатрис Фукуямой.
Она качает головой.
— Вы сгорите тут заживо!
— Что с Эдвардом? — она пытается выглядеть сквозь мою спину, как там посиневший очкарик.
Ее голос мне слышно прекрасно: внутри, наверное, установлены микрофоны.
— Не знаю. Выходите, кто-то должен его осмотреть.
— Вы врете мне. Он умер.
Она нужна мне живой. Беатрис Фукуяма 1Е, руководитель группы, нобелевский лауреат и преступница, нужна мне живой. Это ровно половина моего задания, наконец того самого задания, в правильности и осмысленности которого я не сомневаюсь ничуть.
— Я подожду. Подожду полчаса, пока подействует вирус.
— Теперь мы квиты, — говорю я ей. — Ложь за ложь. Никакого гриппа в пробирках ведь не было, так?
Беатрис молчит. Огонь ползет по груде обломков, забирается на нее с краев, медленно обволакивает, готовясь переваривать. Я его не боюсь: это огонь очистительный.
— Айда! — хлопает меня по плечу Виктор. — Мы отключили пожарную сигнализацию, надо валить!
— Я не могу. У меня был приказ взять ее живой.
— Пора! — настаивает он. — Огонь уже на их долбаные игрушки перекинулся... Сейчас весь квартал выгорит!
Беатрис отворачивается, садится на пол, словно все происходящее ее не касается.
— Уходите, — решаю я. — Заберите инвалида и уходите. Ты за старшего, Вик. Я вытащу ее и присоединюсь позже. Эта штука должна как-то открываться...
— Да брось ты ее! — Виктор кутается в капюшон, кашляет.
— Я все сказал. Давай! — я толкаю его в плечо.
— Ты двинулся, Семьсот Семнадцать?! Я не для того своей шкурой рисковал, чтобы ты тут...
— Давай!!! — я толкаю его сильней. — Проваливайте все!
Мебель, аппаратура, искусственные растения заражаются огнем. Горький туман застит глаза.
— Я выйду! Выйду! — кричу я остальным. — А вы — бегите! Ну?! Приказываю!
И они отступают спиной — медленно. Утаскивают труп дряхлого пижона в очках, выкатывают безгласного паралитика, живого или мертвого. И мы с Беатрис остаемся вдвоем.
— Вам ничего не угрожает! Мы только доставим вас в министерство! Слышите меня? Вам нечего бояться!
Делает вид, что не слышит.
— Клянусь вам, ваша жизнь вне опасности! У меня по вашему поводу особое распоряжение...
Ей плевать на данные мне распоряжения. Она сидит ко мне спиной и не шелохнется. Горящий композит источает едкий сизый дым, и мне сложно кричать: горло дерет, голова идет кругом.
— Пожалуйста! — прошу я. — В том, что вы делаете, никакого смысла! Я не уйду! Я не оставлю вас тут!
Я вдыхаю сизый дым и выдыхаю его. Меня ведет, приходится остановиться, чтобы откашляться.
На пороге вроде бы появляется кто-то. За мной, наверное... Вик? Оглядываюсь через плечо — но силуэт плывет в дыму. Меня мутит. Сознание горчит. Возвращаюсь к старухе. Я стучу в стекло раскрытой ладонью; она оборачивается.
— Думаешь, сбежишь отсюда?! Думаешь, ты теперь хоть где-то сможешь спрятаться, а? С тем, что ты собираешься сделать? Торговать этой заразой! Я знаю, почему ты забралась сюда, в эту проклятую дыру! К своим клиентам поближе! К уколотым! Думали открыть тут свою лавочку и толкать полудохлым нелегальную вакцину, а?! А мир пускай катится в тартары!
А в аквариуме у Беатрис воздух прозрачен. Что за дьявольщина?
Подбираю с пола ножку стола — тяжелую, остроугольную — и с размаху колочу ей по композитной стене. Прозрачный материал поглощает удар, лишь чуть содрогнувшись. Его не разбить, я понимаю это, но остервенело молочу по стене камеры снова и снова.
— Ты слышишь меня! Слышишь! Молчишь? Молчи, ведьма! Мы все равно до всех вас доберемся! Мы не дадим вам нашу Европу разрушить! Ясно?! Вы будете карманы набивать, а мы с голоду пухнуть?! Вы нас обратно в пещеры загнать хотите! Но ничего... До каждого доберемся! До каждой продажной ублюдочной твари!
Сзади что-то вспыхивает, дышит мне жаром в шею, толкает на колени, но я не поддаюсь, я стою.
Меня скручивает, рвет кашлем.
Потолок вдруг выделывает невероятный финт: выскакивает у меня прямо перед глазами и там зависает, вместо стеклянной стены, за которой сидит Беатрис Фукуяма. Я пытаюсь подняться, но в глазах темнеет, руки не мои, и...
— Думаешь, я слабак? Думаешь, не выдержу, уйду?! Да я сдохну скорее! Сдохну сам, но тебя не выпущу! — бормочу я.
Я правда не могу уйти. Где они? Где моя десятка, мои верные товарищи, где мои руки и ноги, мои глаза и уши? Почему они не придут, не заставят меня сдаться, не заберут меня отсюда силой? Неужели они не понимают, что я не могу оставить свой пост сам?! Где Вик? Где Даниэль? Где Эл?!
Закатывающимся глазом сквозь горящие слезы и ядовитое марево мне видится абрис вступающего в этот дымный ад человека, а за ним еще одного.
— Вик! — хриплю я ему. — Эл!
Но нет... На них нет масок, они медлительны и согнуты так, будто несут на своих плечах многопудовые гранитные обелиски. Это старики — упорные и безмозглые насекомые, лезут в огонь, идут за своей маткой-королевой, за королевой Беатрис.
Всматриваюсь: они безголовые и скрюченные, они идут наощупь, потому что слепы. И я понимаю — это грядут настоящие ангелы смерти, не самозванцы вроде нас.
Они за мной.
Я умираю.
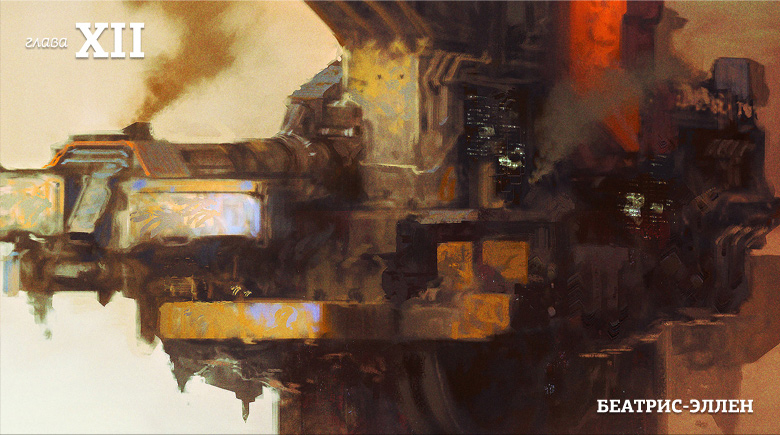
- Мальчик... Ты слышишь меня, мальчик?
Она прямо надо мной: ее узкие азиатские глаза, ее ресницы, слепленные тушью, ее выбритые виски... Беатрис все же вышла, она вышла ко мне...
Отталкиваю ее, сажусь и тут же заваливаюсь вбок. Меня тошнит. Мне надо поймать ее, пока она не сбежала, но я слишком занят своей тошнотой.
Вижу огонь вокруг, но воздух сладкий, настоящий. Им можно дышать, и я дышу, сколько могу. А потом, сосредоточившись, блюю — в угол, поджавшись, стыдливо, как больное животное. Перевожу дыхание, утираюсь... Беатрис сидит напротив меня — и между нами всего полтора метра.
А посередине лежит моя маска.
Хватаюсь за лицо: не может быть, как она с меня свалилась? Понимаю, что Беатрис смотрит на меня — не на Аполлона, а на меня, голого. И некуда деваться. Хочу спрятаться, но пустота за моей спиной не пускает меня, она отлита из прозрачного композита. Я в клетке. В аквариуме Беатрис.
Это не она вышла ко мне, это я оказался внутри. Как такое могло случиться?!
Первым делом дотягиваюсь до Аполлона, подцепляю его дрожащими пальцами, прикладываю его лицо к своей коже — горящей, сухой — как целительный компресс; и оно прирастает тут же, и возвращает мне свободу и наглость, возвращает мне меня.
- Зачем ты это сделала? — шершавым чужим языком леплю я неуклюжие слова. — Ты затащила меня сюда? Это ты?
Беатрис вздыхает.
- Захотела посмотреть на тебя без твоей дурацкой маски.
- Не думай, что я теперь... Что я тебе чем-то обязан... Что я не стану тебя забирать.
- Просто захотела посмотреть на лицо человека, который с таким убеждением несет такой отчаянный бред.
- Бред?!
- Как я и думала, ты оказался мальчишкой.
- Заткнись! Откуда бы тебе знать, сколько мне лет?!
Она жмет плечами.
За пределами стеклянного куба бушует пламя. Чертова техника разгорелась и никак не уймется. Иногда сквозь линзу волнующегося воздуха, как сквозь водопад, виден проход в цех, где эти несчастные делали свои елочные украшения; там тоже пожар. Все горит и все плавится, ничего не остается.
Беатрис созерцает огонь так очарованно, будто это просто огонь. За стеклом полыхает ее лаборатория, скоро все ее дела дотлеют, а ее лицо не выражает ничего.
Но вот она пробуждается: сквозь огненную пелену хотят пройти люди — те, которых я принял за посланных по мою душу чертей. Старики, с головой укутанные в бесполезное тряпье. Идут, переставляя свои коченеющие ноги, которые не может отогреть даже тысячеградусный жар, пытаются разогнать непослушными руками дым. Падают, поднимаются, снова идут.
- Беатрис... — слабо кричит кто-то в огне.
Почему они готовы умереть за нее, почему пренебрегают собой — и почему мои товарищи бросили меня? Да, я сам приказал им так сделать, но неужели у моих приказов такая сила? Почему не Бессмертные рвутся в преисподнюю, чтобы достать оттуда своего, а какие-то жалкие полудохлые старики?
- Чем ты их приворожила? — спрашиваю я у Беатрис. — Ведьма!
Она наблюдает встревоженно за упрямыми смертниками. Поднимается, машет им руками, как бы пытаясь отогнать их.
- Ты их посадила уже на свою дрянь, да? — догадываюсь я. — Этот препарат... Вы уже создали его. Уже подкармливаете их... Они все зависимы! Они все твои послушные куклы...
Я собираюсь, подтаскиваюсь к ней, хватаю ее за ворот.
- Говори! Вы уже успели отдать его контрабандистам? Говори, сука! Он уже вышел на черный рынок?
- Отпусти меня, — говорит она спокойно, даже величественно. — Отпусти меня, мальчик. Ты не понимаешь, что тут происходит?
- Я все прекрасно понимаю! Вы тут варганите вонючую наркоту, пичкаете ей полудохлых, набиваете себе карманы, а сами ждете, пока вас возьмет под крылышко Партия жизни! Они за дозой сюда прут!
- Уходите! — кричит она своим верным муравьям. — Пожалуйста, уходите! Со мной все в порядке!
- Ничего! — перебиваю ее я. — Мы тут тебе навели порядок. Хана твоей фабрике. Пускай лезут... Сейчас тут все прогорит хорошенько...
- Беатрис! — еле доносится из самого горнила, и тут же одна из фигур рушится.
Огонь обнимает ее, ласкает своей страшной лаской — фигура корчится, катается по полу, верещит. Я смотрю на Беатрис: она не плачет. Я лью свои слезы — хоть и бутафорские, надоенные пожаром, а ее глаза остаются сухими.
- Ты сволочь, — говорит она мне. — Ты сволочь, ты только что убил еще одного человека. Ты убил двоих сегодня.
- Крашеный сам откинулся, если ты о нем. Инфаркт, я тут ни при чем. Считай, от старости помер. Давай теперь на меня всех собак вешать!
- Крашеный?.. У него имя есть! Ты убиваешь человека и даже не хочешь знать, кого убил!
- Какая мне разница?
- А я тебе скажу. Эдвард. Может, ты запомнишь его. Он называл меня своей девочкой...
- Прибереги свои сопли для кого-нибудь другого!
- Говорил, мы поженимся. Глупый.
- Да мне насрать на вашу полудохлую любовь, ясно? Я что, похож на извращенца?!
Беатрис вспыхивает, захлебывается — будто я ударил ее в солнечное сплетение.
- Ты был прав. Я зря тебя вытащила...
Я тягуче сплевываю на пол: вот все, что я думаю по этому поводу. Она спасла меня, потому что дала слабину. Теперь это ее проблема.
- Неужели Морис будет такой же сволочью, как и ты? — спрашивает она почему-то меня потом.
- Кто?!
- Такой же сволочью и таким же идиотом... Таким же оболваненным несчастным идиотом... Как ты смеешь думать, что мы торгуем лекарством? Что мы собирались хотя бы на секунду торговать им?!
- Ага! Значит, никакого гриппа тут нет, так? Ты блефовала! — торжествую я. — Вы создали его, создали этот долбаный препарат! Все правильно! Мы все делаем правильно!
- За дозой... — она не может оторвать взгляда от полыхающего тела-веретена, пока то не останавливается. — Ты думаешь, мы хотим продавать им лекарство по дозам? Чтобы побольше заработать, так? И эти люди бросаются в огонь за наркотиком?
- Да!
И она вдруг лепит мне пощечину — только вот моя щека под композитной броней, под чужой мраморной кожей, и я не чувствую ничего. Перехватываю ее усохшую руку, привычно заламываю запястье. Седые волосы сбиваются, путаются.
- Они пытаются спасти меня! Меня, а не себя! Меня, а не лекарство!
- Пусть попробуют! Жалкое старичье...
- Жалкое?! — Беатрис выдергивает руку. — Какое ты имеешь право называть их жалкими?! Ты, оборванец, погромщик, трус в маске — это ты жалкий, ты, а не они!
Мы стоим друг против друга. Сполохи играют на ее лице, и как будто наливают кожу молодостью; серебряная грива встрепана, выбритые виски делают ее похожей не на азиатку, а на ирокеза. В личном файле значится, что ей восемьдесят один год; наш акселератор уже изничтожил ее до биологического возраста, но сейчас, под анаболиком ярости, она об этом забыла.
- Эти люди — самые мужественные из всех, кого я встречала! — лает она на меня. — Самые сильные! Куда им без мужества? Разлагаться заживо! Оказаться человеком и за этой быть приговоренным к казни своим же государством! Блядским, живодерским государством!
- Ты врешь! Они сами делают Выбор! Европа дает им возможность...
- Европа! Самое гуманное и справедливое общество, так?! Да на ней такая же маска, как на тебе! А под маской — такая же гнусная рожа! Вот твоя Европа!
- В Европе все родятся бессмертными! Нечего перекладывать вину на нас! Мы просто исполняем Закон, когда его не хотите исполнять вы!
- А кто придумал такой закон? Кто придумал давать людям такой сатанинский выбор? Если бы нас хотя бы казнили сразу — но ведь это будет бесчеловечно, так?! И нам дают отсрочку, убивают нас медленно, заставляют мучиться... Ты знаешь, что такое старость? Как это — проснуться с выпавшим зубом во рту? Потерять волосы?
- Меня не интересует это все! — твержу я.
- Перестать видеть то, что вдали, а потом и то, что рядом, а потом вообще ослепнуть? Забыть вкус еды? Чувствовать, как силы уходят из рук? Что такое — когда каждый шаг дается болью? Знаешь, что такое быть дырявым мешком с гниющей требухой? Что морщишься? Боишься? Боишься старости?!
- Замолчи!
- Она съедает тебя... Твое лицо превращается в злые карикатуры на тебя самого в молодости, твой мозг — в высохшую черствую губку...
- Твоя старость меня не касается, ясно?!
- Моя?!
Беатрис берется за застежку своего лабораторного халата и рвет ее вниз. Снимает неловко пуловер, и оказывается передо мной в одном лифе; белая ткань на закопченной дряблой плоти. Кожа висит устало, пуп сполз. И сама Беатрис, раздевшись передо мной, сникает, горбится, будто это халат удерживал ее гордую осанку, будто она и вправду не человек, а насекомое, и вместо скелета у нее был панцирь, панцирь халата. А под ним — старое мягкое тело.
Я наблюдаю за ней завороженно, с ужасом.
Она сдергивает с себя лиф, две бесформенные груди вываливаются ко мне, коричневые расползшиеся соски глядят вниз.
- Что ты делаешь?...
- Вот что осталось от меня! Гляди! Ты своровал мою молодость! Мою красоту! Ты и такие, как ты! Тебя это не касается?!
Беатрис делает шаг ко мне — и я вжимаюсь в стену.
- Это ведь ты блюдешь меня! Ты не даешь мне вылечиться! Ты хочешь моей смерти! Почему тебя это не касается?! Это не моя, это твоя старость!
- Не надо, — прошу я.
- Притронься к ней, — индейская ведьма наступает на меня.
- Не надо!
- Брезгуешь? Ты знаешь, какой красивой она была семь лет назад? Всего семь лет назад! Какой я вся была?.. Какими были эти руки? — она тянет ко мне пальцы в пергаментной коже. — Какие оды мужчины пели моим ногам? — гладит себя по дряблому бедру. — Куда все ушло? Старость жрет меня, жует с утра до ночи! Я борюсь с ней, дура, кремами, спортом, диетами — всеми законными средствами, но они законны только потому что бесполезны! Мне ее не остановить...
- Ты сама сделала Выбор!
- Я не делала никакого выбора! Ко мне ворвались посреди ночи, вывернули мне руку и вкололи акселератор, потом наркоз — и швырнули обратно.
- Не может быть... Это нарушение процедуры... Они были обязаны... — неуверенно возражаю я.
- Они отобрали у меня мою молодость и красоту, и ничего не оставили мне взамен. Но самое главное — у меня отняли ребенка!
- Ребенка?..
Она так и стоит, распахнутая, передо мной — глаза стеклянные, повернуты в прошлое; стены камеры начинают нагреваться, я чую это спиной. Сколько она выдержит еще? И воздух, кажется, подходит к концу... На шее, на груди Беатрис копятся капли пота, только ее напудренное лицо не дышит, оно свежее, как моя маска.
- Я тогда думала, мне все снится. Что это кошмар — будто где-то плачет мой ребенок, а я ищу его и не могу найти. Хочу очнуться, помочь ему, и не могу. А когда проснулась...
- У тебя был ребенок?!
- ...поняла, что это был не сон. Его не было. Мориса. Моего сына. Я не верила еще, надеялась, что мне привиделся кошмар, пошла к соседям... Спрашивала, не у них ли он, мой Морис...
- Ты размножилась незаконно? Не задекларировала беременность? — я наконец понимаю, что случилось.
- Ему было два месяца. Наверное, я в них вцепилась, потому-то и они и применили наркоз. Он плакал по-настоящему, просил, чтобы я его нашла, вернула... А я спала. Его отняли у меня. Вы забрали его у меня! Все забрали! Молодость, красоту, сына!
- Так вот что...
Я распрямляюсь; в ушах у меня гудит, по рукам течет электричество, душа зудит от злости и омерзения.
- И теперь его растят таким же головорезом, как ты! Таким же выхолощенным ублюдком! Таким же цепным псом...
- Ты знала?..
- Такой же паскудой! Моего мальчика... — продолжает она, как заведенная.
- Ты знала?! Говори, сука старая! Ты знала, что с ним будет, если тебя поймают с незаконнорожденным ребенком?! Знала, что его отдадут в интернат?! Что всех незаконнорожденных забирают в интернаты! Ты знала, да?! Знала, что его превратят в Бессмертного!
Мне хочется ударить ее — без жалости, как мужчину, в скулу, своротить ее плоский нос, пинать ее по ребрам.
- Ты знала, что его ждет в интернате, да?! Знала, и все равно не стала заявлять о беременности! Ты обрекла своего Мориса на это — и знала, что обрекаешь!
Беатрис зябко запахивается, прячет от меня свою жуткую грудь, сникает. И пламя за стенами куба опадает — будто это она питала его своей яростью, а теперь дотла выгорела вся, вместе со своей лабораторией.
- Почему?! Почему ты родила его незаконно? Почему не сделала Выбор, пока была беременной?!
- Какое твое дело?..
- Ты могла бы остаться с ним! Если бы ты вовремя заявила о беременности, один из вас — ты или отец Мориса — мог бы быть с ним целых десять лет, а второй — всегда! Ты сама во всем виновата! Почему ты не заявила вовремя?!
- Он ушел! Он бросил меня, как только узнал, что я беременна! Исчез!
- Ты должна была сразу же сделать аборт!
- Я не хотела! Я не могла! Я не могла убить его ребенка! Я надеялась, что он вернется... Я ждала его! Ждала до последней минуты!
- Идиотка!
- Молчи! Я его любила! В первый раз полюбила мужчину по-настоящему, без памяти — за семьдесят лет! Ты не можешь меня судить! Откуда тебе знать, что такое любовь?! Вы же там все кастраты!
- Ну да... — соглашаюсь я. — Мы же там все кастраты. Ты просто шлюха, вот ты кто. Никчемная уродливая шлюха. И ты сама приговорила своего сына. Любовь? Засунь себе свою любовь в свою морщинистую сухую...
- Я думала, он вернется... — шепчет она. — Захочет посмотреть на своего сына...
- И что, твой крашеный герой только что окочурился на твоих глазах?!
- Эд?.. Нет... Я с ним уже тут познакомилась... Год назад... Он тут ни при чем...
- Прошмандовка, — цежу я.
- У вас разница... В возрасте, да? Но, может, ты его там видел? Ты ведь совсем молод, да? Может быть, ты видел там его? Может, вы были в одном интернате? Мальчик восьми лет, раскосенький, Морис?
Вылизанное пламенем, стекло камеры закоптилось, почернело, и я вижу в нем свое лицо. Мраморные кудри, черные бойницы глаз, благородный греческий нос.
- Так вот зачем ты меня вытащила из огня, — до меня наконец доходит.
Я снимаю маску Аполлона и улыбаюсь. Улыбаюсь Беатрис Фукуяме так широко, как позволяют мне ноющие лицевые мышцы, так широко, как растягиваются мои растрескавшиеся губы.
- Вот, — говорю я ей. — Смотри. Ты ведь хочешь его еще раз увидеть, прежде чем окочуришься, а? Ну так смотри на меня. Вырастет — будет как я. Мы все одинаковые.
И она смотрит. Подбородок ее трясется. Огонь и злость ушли из нее, и ничего больше не осталось.
- Потому что когда он выйдет из интерната, ты уже сдохнешь. Вы разминетесь. Но ничего. У тебя есть право на один звонок, тебе сказали? Но ты можешь не звонить. Ты уже видела меня, а Морису твоему вообще все равно. Он все равно тебя не вспомнит. В два месяца они просто кусок мяса.
Мне наконец удается довести ее до слез.
- Реви! — говорю я ей. — Реви сколько угодно! Реви громче, а то я, пожалуй, расскажу тебе еще, что там делают с нами! Как ваших детей наказывают за ваше блядство! Как мы платим за вашу сучью ль-любовь!
И она рыдает в голос, опускается обессиленно на пол и рыдает бесконечно, и пожар в ее лаборатории затухает.
- Прости меня... — лепечет она сквозь всхлипы. — Прости меня... Ты прав. Это мне наказание. И то, что Эдвард умер, и то, что вы сделали с моей работой... Я заслужила это.
- Да пошла ты! — я харкаю ей под ноги.
Но вдруг чувствую что-то уж совсем неуместное для наших с Беатрис отношений: вину. Она ведь не моя мать, говорю я себе; она просто несчастная посторонняя старуха. Я протягиваю ей руку.
- Собирайся. Мы уходим.
- Как тебя зовут? — слабым голосом спрашивает она.
- Джейкоб, — отвечаю я не сразу.
Она встает, застегивается медленно, измотанная.
- Прошло полчаса, а я все еще жив, — замечаю я. — Где твой шанхайский грипп?
- Не было гриппа, — глухо произносит Беатрис. — Я надеялась, вас это остановит.
- Конечно, не было. Нас не отправили бы на такое задание. Зато препарат был, да ведь? Доза жизни на день, чтобы завербовать армию ходячих мертвецов и выкачивать из них деньги?
- Мы не собирались его продавать, Джейкоб. Мы не имели права торговать им.
- Это точно.
- Не имели права дробить спасение на дозы. Лекарство должно приниматься однократно, быть простым в использовании... И легким в производстве. Те, кто станут делать его, не должны зависеть от нас... Одна лаборатория, три человека... Мы знали, что уязвимы.
- Вы обучили еще кого-то? Отгрузили партию?! Сохранили рецепт?! Поднимай заслонку! Мы выходим!
Беатрис подчиняется — отдает команду, и дверь ползет вверх. В лицо — жар, удушливый угар, парящая копоть, как черный пух.
- Мы не успели завершить работу. Никакого лекарства нет, Джейкоб.
- Не может быть!
- Нам еще несколько лет до результата... Было несколько лет.
- Ты врешь.
Дорогу мне преграждает оплавившийся ком: в нем нет ничего человеческого, хотя полчаса назад он кричал «Беатрис!». Обхожу его стороной.
- Чего ради тогда твои старики сюда лезли?! Если лекарства нет и не будет еще несколько лет... Они бы к этому моменту все перемерли уже как мухи! Зачем опережать события?! Ты врала им тоже? Обещала спасти их, если они спасут тебя?!
- Ты не понимаешь?
- Нет, черт возьми!
- Они знали, что я не успею им помочь. Знали, что все обречены. Эдвард знал, и Грег, разумеется... Тот, что в инвалидной коляске. Но я — может быть — сумела бы дотянуть до того дня, когда получила бы формулу... Эти жалкие старики... — она оглядывается на вторую кучу тряпья, пахнущую жареным мясом. — Наверное, они думали, что стоит умереть, чтобы кто-то когда-нибудь получил шанс.
Мы выходим в игрушечный цех — совершенно выгоревший и мертвый. Под бутсами скользит расплавленное и загустевающее стекло: елочные игрушки превратились в то, чем и должны были оставаться. Беатрис, обжегшись, вскрикивает — и я поднимаю ее на руки, переношу через дымящуюся лужу.
- Тебе ничего не сделают. Те, кто отправил меня сюда... Они просто хотят, чтобы ты работала на них.
Зачем я ей это говорю? Она запрещает себя жалеть, но я зачем-то ощущаю именно жалость. Эта ее история — о двух глупых стариках, которые пытаются обогнать смерть в заведомо проигранной гонке... И вот появляюсь я, и снимаю их с дистанции.
Они ведь не успели ничего сделать. И теперь уже не успеют. Если она говорит правду... Один из ее компаньонов уже коченеет, другой в коме, а ей самой осталось два-три года; если я ее отпущу сейчас — она просто проживет их в мире, и вреда от нее никакого уже не будет. Я гоню от себя эти мысли, но они с жужжанием возвращаются ко мне снова.
Беру Беатрис за руку.
- Но если не продавать... Что тогда вы думали делать с этим вашим препаратом? Производить его для Партии жизни?
- Мы вообще не собирались его производить.
Я вспоминаю мою последнюю встречу со Шрейером. Слова старухи с перебитым хребтом против слов господина сенатора; кому я поверю скорее? Мог ли он обмануть меня? Преувеличить опасность, чтобы я сомневался в своем задании? Мог. Обязан ли я ему все еще в таком случае?
Обязан. Но...
- Мы бы выложили формулу лекарства в Сеть. В открытый доступ.
- Что?!
- Чтобы каждый мог распечатать его на молекулярном принтере. Никто не должен зарабатывать на таком. Никто не должен ждать его и умирать, не дождавшись...
У меня темнеет в глазах.
Она не хочет хранить рецепт в тайне. Ей не нужны деньги. Ей не нужны рабы. Раздать панацею всем. Вывихнуть тончайше отстроенный механизм, который управляет нашими инстинктами, позволяя нам оставаться людьми. Всех спасти и все уничтожить.
Беатрис Фукуяма гораздо опасней, чем считает Эрих Шрейер. Она не террорист и не барыга; она гребаный идеалист.
Я опускаю забрало маски.
Я сдавливаю ее кисть крепче, изо всех сил, до синяков, и волоку ее за собой, как древние кочевники волокли пленников, привязывая их к седлам своих коней, чтобы продать в рабство или принести в жертву.
На пороге меня встречает толпа чумазого старичья и моя десятка. Старики проклинают меня, тянутся, чтобы вырвать из моих рук свою королеву, но Бессмертные без труда держат их хилый натиск.
Мы уходим раньше, чем появляется пожарная охрана, и никто не помешает нам забрать наших пленных и наши скальпы. Беатрис артачится, но Вик живо уговаривает ее коротким разрядом.
За аэрошлюзом нас ждет полицейский турболет. Когда я засовываю Беатрис в его брюхо, она бредит: два удара шокером подряд кого угодно подкосят.
- Переменная Ефуни... Помнишь, что это? Они думали, что расшифровали геном еще в двадцатом веке... Видели все буквы, но не могли прочесть слова... Потом прочли их, и решили, что постигли смысл... А оказалось, что каждый слог обладает смыслом, и не одним... И слова — многозначны... Один и тот же ген делает тебя коротконогим и счастливым, другой одновременно влияет на потенцию и на цвет глаз, и на черт знает что еще. Мы до сих пор всего не расшифровали, не поняли всех смыслов... Полезли туда со скальпелем, резать, пришивать... Не научившись читать... И эти части генома, которые мы изменили... Чтобы перестать стареть... Отменить программу... Юджин Ефуни... Биолог. Он предположил, что у этого участка есть другие функции, что нельзя так сразу, но... Кто ему поверил? Ему никто не поверил, Морис... Ты слышишь меня, Морис? — она пытливо заглядывает мне в глаза.
- Нет.
Я открываю водопроводный кран, наполняю стакан.
Горло пересохло; гребаный пожар выпарил из меня все соки. Вода кажется сладкой, но это самая обычная вода — ее подслащивает моя жажда. Выхлебываю все до дна, наливаю еще один. Глоток за глотком осушаю и его. Наливаю снова. Пью, обливаясь, пальцы соскальзывают с композита; будь это стекло — стакан, наверное, лопнул бы у меня в руке.
Набираю четвертый стакан, вливаю его в себя. Вкус у воды теперь тот же, что и всегда — сырой, чуть отдающий металлом. Я больше не хочу пить, но наполняю стакан еще раз.
Отяжелев, опускаюсь на койку, врубаю экран.
Нахожу благотворительный канал, который выжимает из зрителей слезы и деньги, рассказывая о жизни резерваций. Вот какая-то поприличней: тут дети вместе со своими стремительно дряхлеющими родителями, возятся на синтетической лужайки, имитируют семейное счастье, притворяются, что никому тут через пару лет не умирать. Но симптомы тут: седина, морщины, медлительность...
Одолеваю пятый стакан.
- Без помощи «Поколения» мы едва сводили бы концы с концами, — признается благообразный старик, обнимающий свою маленькую дочь. — Но благодаря вам, мы можем вести полноценную жизнь. Такую же, как ваша...
Тут скрипичные, играющие на фоне, дают какую-то особую ноту, от которой мурашки бегут по коже. Отработанный трюк: неподготовленный зритель может решить, что это его выступление старикана растрогало.
- Фонд «Поколение» заботится о трех миллионах пожилых людей по всей Европе, - заключает приятный бас, пока на экране крутится логотип этого самого фонда. — Помогите нам помочь этим людям прожить достойно...
- Хер вам, — отвечаю я ему, захлебываясь водой.
Была в Средневековье такая пытка: в рот вставляли кожаную воронку и вливали в человека воду, пока у него желудок не разрывался. Здорово бы мне такую воронку.
Этот канал — такой же лепрозорий, как и сами резервации со стариками; по всем остальным крутится социальная реклама «Выбор слабых», крупным планом исследующая гнилые зубы и редкие волосы каких-то маразматических старух.
От этого тошнит, но от этого и должно тошнить. Европе не нужны пожилые люди: их надо содержать, лечить, кормить; они не производят ничего, кроме дерьма и елочных игрушек, зато тратят воздух, воду и место. Дело не в выгоде, рацион каждого рассчитан так, чтобы просто выжить. Европа и так загнана, ее нельзя навьючивать дальше.
Но ведь состариться и умереть — конституционное право каждого, такое же неотъемлемое, как и право оставаться вечно юным. Все, что мы в силах сделать — отговорить людей стареть. И мы отговариваем, как можем.
Те, кто выбирает размножение, предпочитает остаться животным — виноваты сами. Эволюция движется дальше, и те, кто не умеет изменять себя, вымирают. Тех, кто не хочет изменять себе, эволюция тоже ждать не будет.
- Сами виноваты, — бормочу я и делаю еще один глоток. — Так что пошли вы в задницу.
Гляжу на часы: до пресс-конференции Беринга остается всего минута. На экране моего коммуникатора все еще мигает сообщение от Шрейера: «Сотый канал, семь вечера. Порадуешься».
Переключаюсь на Сотый.
Поль Беринг, министр внутренних дел и член центрального совета Партии Бессмертия, выходит на небольшую трибуну, сдержанно машет знакомым репортерам. За спиной — европейские золотые звезды на синем знамени, на трибуне — герб министерства с девизом «На службе общества», но на лацкане — значок в виде Аполлоновой головы. Веселый худощавый шатен с мальчишескими чертами, Беринг больше всего похож на студента панамского элитного колледжа. Именно такой человек должен отвечать за безопасность в волшебной стране Утопии, гражданам которой не угрожает ничего страшней скверной погоды. Беринг чуть встрепан, неприлично загорел и улыбается стеснительно, хотя с такими зубами можно было бы скалиться круглосуточно. Камера его любит. Карвальо любит Беринга. Все его любят. Я его люблю.
- Спасибо, что пришли, — говорит Беринг. — Дело действительно важное. Сегодня нами была пресечена деятельность преступной группировки, которой удалось создать нелегальный дженерик вакцины от смерти, препарат вечной молодости.
Журналистский стан волнуется и ропщет. Беринг серьезно кивает собравшимся, делает паузу, позволяя им отправить со своих коммуникаторов новостные молнии. Я прибавляю громкости, отставляю в сторону наполовину пустой стакан.
- Случилось именно то, чего мы опасались и то, к чему мы безуспешно пытались подготовиться. Дамы и господа, сегодня нам удалось предотвратить подлинную катастрофу.
Министр Беринг — румянец на щеках — наливает себе в стакан воды, унимает ей волнение. Пресса аплодирует.
- Катастрофу мирового масштаба. Я не оговорился. В планах группы, которую мы обезвредили, была контрабанда дженерика в ПанАмерику, где его незаконным распространением должны были заниматься наркокартели. А вырученные средства... Вырученные средства должны были идти на финансирование Партии Жизни.
Вот как.
- Доказательства! — требует репортер с явным панамским акцентом.
- Ну конечно, — кивает ему Беринг. — Дайте связь с камерой, пожалуйста.
И на экране появляется Беатрис Фукуяма.
Она выглядит куда лучше, чем когда я швырял ее в полицейский турболет. Причесанная, отмытая, волосы уложены. Никаких следов побоев или пыток — в Утопии ведь не пытают.
- Это Беатрис Фукуяма 1Е, ученый-микробиолог, лауреат Нобелевской премии по медицине и физиологии за две тысячи четыреста восемнадцатый год, — представляет ее Беринг. — Здравствуйте, Беатрис.
- Добрый вечер, — та кивает с достоинством.
- Уважаемые коллеги, Беатрис Фукуяма в вашем полном распоряжении, — Беринг делает приглашающий жест рукой.
Я подхожу ближе к экрану, вглядываюсь недоверчиво. Журналисты набрасываются на мою Беатрис так, будто им предложили побить ее камнями на рыночной площади в каком-нибудь галилейском городишке.
Но она хорошо держит удар и, не теряя спокойствия, все объясняет: да, создала. Нет, про сбыт мне ничего не известно. Сбытом должны были заниматься активисты Партии Жизни, не смейте называть их террористами, они пытаются нас спасти. Нет, я не буду называть имен. Нет, я ни о чем не сожалею.
С ее сухих губ не сходит улыбка, она уверенно глядит прямо в объектив, ее голос не дрогнет ни разу, и ни разу она не попытается дать понять хотя бы тайным знаком, что она тут заложница, что нельзя верить ничему из того, что она сейчас произносит.
Когда допрос окончен, Беринг поднимает палец.
- Еще одна деталь. Сегодняшняя операция была проведена звеном Бессмертных. Счет шел на минуты, злоумышленников кто-то предупредил, они уничтожили свою лабораторию и готовились бежать. Полиция почти наверняка не успела бы. По счастью, звено добровольцев Фаланги оказалось поблизости.
- Господин министр! — тянется кто-то из толпы. — Президент ПанАма Тед Мендес известен своей критикой Партии Бессмертия и особенно ее штурмовых отрядов. Как вам кажется, не поможет ли вам эта операция наладить отношения?
Беринг разводит руками.
- Штурмовые отряды? Разве это не что-то из истории двадцатого века? Не понимаю, о чем вы. И у нас с господином Мендесом нормальные рабочие отношения. Это все, коллеги, спасибо!
Занавес.
Коммуникатор пищит: сообщение от Шрейера.
«Ну как?»
Во рту становится солоно — прикусил себе язык.
Это не Беатрис, это какая-то кукла. Я не верю, что она могла говорить такое. Не верю, что могла улыбаться. То, что произнесла кукла-Беатрис, не может быть правдой, потому что все, что сказала в стеклянной камере мне Беатрис настоящая, не может быть ложью.
Какая разница, как они это повернули, осаживаю я себя. Моя правда ничем не слаще того обсахаренного вранья, которым они только что накормили ротозеев по всему миру. Беатрис гораздо опасней, чем они ее изобразили. Не для ПанАма, так для Европы. А главное — для Партии Бессмертия.
Ты все сделал правильно, говорю я себе. Все! Правильно!
Остановил сумасшедших, которые пытались разорить твою жизнь и жизнь ста двадцати миллиардов других людей. Защитил закон и вывел из-под удара Фалангу. Делом заплатил за дело, вытравил пятно со своей репутации. Продвинулся по службе и оправдал доверие начальства.
Все так. Почему Беатрис Фукуяма — отчищенная и улыбающаяся — кажется мне страшней той ведьмы, которая шла на меня, вывалив передо мной напоказ свою старость? Почему слова, которые я услышал тогда, для меня важней слов, которые мы все услышали только что? Не упускаю ли я тот момент, когда за настоящего Яна говорит и действует Ян-кукла, и вообще кто такой настоящий Ян?
«Ну как?»
Как использованный презерватив, господин сенатор. Рад, что пригодился. Спасибо, что выбрали нашу марку.
Я молодец. Я хороший парень. Я помню, как пахнет сгоревший заживо человек.
Но этот запах не отменяет правоты Шрейера. Он подобрал мне подходящую роль и объяснил ее так, чтобы я с ней справился. Потратил на это время вместо того, чтобы просто приказать мне — или кому угодно.
Гляжу на его сообщение и не знаю, что ответить. В конце концов набираю: «Почему я?». Эрих Шрейер откликается сразу. «Дурацкий вопрос. Я спрашиваю себя о другом: если не я, то кто?».
А через минуту приходит еще одно: «Можешь отдохнуть, Ян. Заслужил!»
И вот я сижу напротив его роскошной жены в кафе «Терра», и вокруг нас — саванна, и закат, который никогда не станет ночью; посетителям нравится огромное африканское солнце, а на ночь они могут посмотреть где угодно. Поэтому жирафы — два взрослых и неуклюжий детеныш на путающихся ногах — будут ходить по кругу, неустанно, вечно, и никогда не лягут спать. Но им, конечно, все равно: они ведь давным-давно умерли.
- Смотри, какой милый! — щебечет рядом какая-то девушка, показывая своему кавалеру на звереныша.
- Куда вы? — спрашиваю я у Эллен Шрейер.
Она уже встала и собирается уходить, а я никуда не спешу.
- И что мой муж? — Эллен сжимает губы; в ее очках-авиаторах я вижу только себя.
- Ваш муж оказался прав во всем, — я опрокидываю в себя стакан «Золотого Идола» и ничего не чувствую.
- Он прекрасный человек. Мне пора. Вы меня проводите?
- Что же вы... Не будете допивать вашу воду?
- Давайте, я заплачу? Я понимаю, место не из дешевых... Но мне не хочется насиловать себя, только потому что вам жаль оставлять недопитой воду из-под крана.
За вас уже заплатила Беатрис, хочу сказать я. Не все из нас выглядят на двадцать. Я знаю человека, Эллен, который поменял бы вашу кокетливую усталость от вечной молодости на раздавливающую его старость, раз вы говорите, что не боитесь ее.
Я гляжу на ее бокал: он наполовину пуст.
Обычная вода, такая течет из-под крана в каждом доме. Два атома водорода, один кислорода, какие-то случайные примеси и приличная концентрация ретровируса, который, попав в организм человека, денно и нощно перекраивает его геном, вписывает свои белки в человеческие ДНК, вычищает те участки, по вине которых мы стареем и умираем, и заполняет их своими, которые дарят нам вечную юность. Вот она, прививка от смерти. Строго формально, бессмертие — это болезнь, и наш иммунитет, неандерталец с дубиной, пытается бороться с ним. Так что на всякий случай мы заражаем себя бессмертием каждый день заново, просто наливая себе сырой воды. Разве можно придумать более удобный способ вакцинации?
- Увы, за вас уже заплачено, — я поднимаюсь. — И конечно, я вас провожу.
Перед ресепшен — череда туалетных комнат, стена коридора превращена в искусственный водопад, пол выстлан эбеновым деревом, свет тусклый — лампы спрятаны в бычьи пузыри.
Я толкаю черную дверь, беру Эллен за руку и втаскиваю ее в туалет. Она дергается, но я зажимаю ее губы. Беру за ее девчачий пони-тейл, запрокидываю голову назад. Бутсами бью по ее пижонским ботинкам, раздвигаю ей ноги как при обыске. Она мычит, и я засовываю пальцы ей в рот. Свободной рукой нащупываю ремешок, пуговицы, молнию, суетливо, в жаре расстегиваю, раздергиваю, разрываю, спускаю по колена ее кокетливые штаны с кармашками, запускаю руку ей в трусы, хозяйничаю там — Эллен пытается лягнуть меня, кусается, но я не отпускаю, настаиваю, заставляю — и еще через несколько секунд мои пальцы, в которые она до крови вцепилась зубами, трогает, обезболивая, ее язык; не ослабляя своей судорожной хватки, она облизывает меня, покоряется, и подается задом ко мне, приподнимается, раскрывается, мокнет, и слепо шарит уже у меня в паху, хочет найти застежку, шепчет что-то сердито, вжикает, просит, вскрикивает, наклоняется сама вперед и приподнимает услужливо одну ногу, и позволяет себе, чтобы я делал с ней все, что мне угодно. Очки слетают с нее, курточка сбилась, она высвободила грудь, ее глаза закрыты, Эллен лижет зеркало, в которое уткнулась лицом...
Мне зло и мне хорошо от того, что я сдернул за волосы с Олимпа ее, надменную, богиню, что я соскребаю с нее позолоту ногтями, что каждым своим вскриком она низводит себя до человека, что я опускаю ее до себя.
И я бьюсь в нее, бьюсь до потери себя, до растворения, и вот оба мы уже никакие не люди, а два спаривающихся животных, и именно так нам лучше всего.

- Тебе нравится моя стрижка? Я так хотела, чтобы тебе понравилось... Тебе нравится, Вольф?
Никто ей не отвечает, конечно. В кубе почти совсем темно. Еле светится, вывернутое почти в ноль яркости, распахнутое окно в Тоскану, обычная заставка моего домашнего экрана. Я стою в дверях и вслушиваюсь в ее заискивающе мяуканье. Аннели у меня дома; спит и разговаривает во сне.
Закрываю дверь, присаживаюсь на край кровати. Чувствую себя так, словно пришел навестить раненого товарища в больничную палату. Полумрак, чтобы глазам не было больно, плотная тишина, потому что всякий звук — это ножом по стеклу, в воздухе — суспензия недавней беды, слова Аннели как горячечный бред. Ей нужно одолеть то, что случилось, собрать силы жить дальше. Притрагиваюсь осторожно к ее плечу.
- Аннели... Просыпайся. Я принес еду. И вот еще шмотки кое-какие...
Она ворочается и постанывает, не желая расставаться с Рокаморой. Потом пытается потереть глаза, вместо своей кожи натыкается на стекло и вздрагивает, будто в нее шокером ткнули. Садится в постели, подтягивает колени и обнимает их замком. Замечает меня, поеживается.
- Я не хочу.
- Тебе надо поесть.
- Когда Вольф меня заберет?
- У меня тут кузнечики со вкусом картошки, и еще салями...
- Я не голодна, я же объяснила. Могу я уже снять с себя эти очки?
- Нет. Система распознавания лиц работает все время. Стоит ей тебя засечь — и через пятнадцать минут тут будет звено Бессмертных.
- Как она меня тут увидит? Это же твой дом! Ведь этот куб — твой?
- Откуда мне знать, что тут нет камер?
Она сидит, сгорбившись, сцепив руки на коленях. На Аннели черная рубашка, воняющая Рокаморой и мои зеркальные очки; в них я вижу только себя — загородивший собой дверной проем черный силуэт, умноженный на два.
- У меня тут еще для тебя кое-какие шмотки... Переодеться в чистое.
- Я хочу позвонить Вольфу.
- Ты двое суток не ела, почти не пьешь, так ты долго не протянешь!
- Почему ты не разрешаешь мне связаться с Вольфом? Экран свой запер паролем... Дай мне комм, я хотя бы напишу ему письмо. Скажу, что со мной все в порядке.
- Я же объясняю тебе... Нельзя. Все перестанет быть в порядке, как только ты отправишь это свое письмо. Пойми, они знали, где вы жили. Значит, за вами следили. Перехватывали ваши разговоры и переписку. Они сейчас ждут, кто из вас не выдержит первый. Нас накроют через секунду.
Тогда она ложится обратно и отворачивается лицом к стене.
- Аннели?
Аннели молчит.
- Воду забыл. Я сбегаю за водой, хорошо?
Она не шевелится.
Я ставлю кузнечиков на столик и выхожу.
В очереди у трейдомата меня все время хлопают по плечу и окликают: не слышу, как цепь жаждущих отовариться подвигается пошагово вперед, к прилавку. Я покупаю ей кузнечиков, планктонную пасту, мясо, овощи — она ни к чему не притрагивается. Может быть, чувствует что-то, понимает, что она в неволе.
Но выпустить Аннели я не могу. Я отрапортовал Шрейеру о ее ликвидации, а тот потрепал меня по холке; но принял ли он мои слова на веру, я понятия не имею. Не имею понятия, не внес ли он Аннели в базу разыскиваемых лиц после того, как я ее убил, не были ли люди с перекроенными лицами на самом деле его запасными игроками, не ищут ли они теперь Аннели по всей Европе, и не знают ли они уже, где она сейчас.
И, конечно, когда люди Шрейера обнаружат ее живой и здоровой, господин сенатор будет неприятно удивлен. Тем более, если ее найдут у меня дома.
Позволить ей вернуться к Рокаморе?
Партия Жизни — настоящее подполье, могущественное и разветвленное; десятилетия потребовались на то, чтобы наконец прижать Рокамору, хотя казалось бы — в Европе не спрятаться. Если я верну Аннели ее настоящему хозяину, он наверняка сможет сделать так, чтобы Шрейер никогда больше не добрался до его женщины, сумеет защитить ее. Я тогда окажусь доброй феей, любовь восторжествует, а карьерный лифт, посланный за мной на грешную землю моим терпеливым благодетелем, не захлопнет передо мной свои золотые двери.
Вот это и есть идеальное решение. Не сажать ее на цепь, не опаивать снотворным, не врать ей от начала и до конца про все — а просто отпустить ее к Рокаморе. Потому что он знает, что с ней делать, а я понятия не имею.
И пусть он целует ее, пусть ее трахает, пусть обладает ей. Пусть эта лживая очкастая сволочь, этот слабак, этот болтун пользуется Аннели. Так? Потому что она ведь о нем мечтает, все уши мне уже прожужжала, не хочет ничего жрать, и еще спасибо, что воду я в нее хоть как-то вливаю.
- Привет! Вы вернулись! Забыли что-то? — улыбается мне стриженная под пони девчонка.
- Да. Воды. Без газа. Одну бутылку.
- Конечно. Еще что-нибудь? Не помню, я вам предлагала уже наши новые таблетки счастья?
- Предлагала. Ты же их предлагаешь каждый раз, нет?
- Простите, из головы вылетело. Ну, тогда все.
- Погоди... Как они вообще? Ничего?
- О! Отличные! Все очень довольны. Кстати, сегодня специальное предложение! Две пачки по цене одной, если вы покупаете в первый раз. Вы же еще не брали?
- Ты ведь знаешь все, что я брал и чего не брал.
- Конечно. Извините. Вам какой вкус нравится? Есть клубничные, мятные, шоколадные, манго-лимон...
- А есть безвкусные? И быстрорастворимые?
- Конечно.
- Давай. Ты обещала две пачки! Прекрасно выглядишь сегодня, кстати.
Я бросаю в бутылку две шипучих таблетки, потом размышляю и добавляю еще две. Пусть только кто-нибудь попробует сказать, что я не знаю, как сделать женщину счастливой.
Когда я возвращаюсь, Аннели лежит все в той же позе. Она не спит, просто смотрит в стену через темные очки. Я достаю стакан, с притворным усилием открываю уже открытую бутылку, наливаю ей.
- Вот вода. Попей.
- Не хочу.
- Слушай, я в ответе за тебя перед твоим Вольфом, ясно? Он с меня спросит, если ты окочуришься! Пей, я тебя прошу. Мне надо уходить, я хочу, чтобы ты поела и попила на моих глазах...
- Я не буду тут больше торчать.
- Тебе нельзя...
- Ты не можешь меня тут держать силой! — Аннели вскакивает на кровати; сжимает кулаки.
- Конечно, нет!
- Почему я не помню, как тут оказалась?
- Ты вообще хоть что-нибудь помнишь? Ты лыка не вязала, когда я тебя забирал!
- Я напилась, было дело, но чтобы выпасть на сутки?!
- Наглоталась какой-то отравы, я тебе еще волосы придерживал и на руках тащил, и вот благодарность...
- Почему он меня отсюда не забирает?!
- Что?
- Ничего!
- Успокойся. Пожалуйста, успокойся. Поешь... Хочешь, я чего-нибудь еще принесу тебе? Ты просто закажи, я найду...
- Я хочу выйти. Продышаться. Как тебя зовут? — спрашивает она.
Как меня зовут? Патрик? Николас? Теодор? Как зовут того меня, который давний друг Хесуса Рокаморы, и активист Партии Жизни, и бескорыстный защитник прекрасных дев? От неожиданности я чуть не разоблачаю себя, назвав ей имя меня-слюнтяя, меня-заигравшегося кретина, меня-клятвопреступника. Я ведь уже представлялся ей своим настоящим именем однажды, и если она запомнила мой голос, то могла запомнить и имя.
- Эжен. Я же говорил, — в последнюю секунду спасаюсь я.
- Я не могу тут больше сидеть, Эжен. Мне тут тесно, понимаешь?
Я понимаю.
- Ладно. Ладно, слушай, давай так: ты съедаешь этих кузнечиков, выпиваешь воды, и мы идем гулять. По рукам?
Она разрывает пачку кузнечиков, набивает ими полный рот, жует с хрустом, запивает половиной стакана, набирает еще столько же — снова уминает. Безо всякого аппетита, просто выполняя свою часть сделки. Через минуту бутылка пуста, а от двухсот грамм кузнечиков остались отшелушенные крылышки.
- Куда мы пойдем? — спрашивает она.
- Мы могли бы прогуляться по блоку...
- Нет. Я хочу погулять по-настоящему. Я съела всех твоих братьев по разуму, я заслужила нормальную прогулку.
- Это опасно, я же сказал...
А она вдруг снимает мои очки и швыряет их в угол. Тонкий звон: стекла разбились.
- Оп! Опасно теперь сидеть дома.
- Зачем ты это сделала?!
- Я хочу туда! — она указывает пальцем в мой экран, в холмы и небо Тосканы. — Я пялилась в эту твою чертову заставку двое суток и только и мечтала, что свалить из этой клетки. Туда!
- Этого места давно нет!
- Ты проверял?
- Нет, но...
- Разблокируй экран. Какой у тебя пароль? Давай спросим!
Ее голос звенит; черт знает, что с ней может случиться от четверной дозы антидепрессантов. Моя блестящая идея на секунду кажется мне не такой уж блестящей. Я разблокирую экран.
- Найти локацию, изображенную на заставке, — командует она ему так просто, словно это не означает то же самое, что «найти святой Грааль», или «найти Атлантиду».
- Его нет! Этого места нет!
- Сверка завершена. Локация обнаружена, — докладывает экран. — Время в пути — три часа. Запишите координаты.
- Что за тряпки ты мне принес, покажи ка? — требует Аннели. — Буэээ... Ладно, сгодится. Ну-ка отвернись, я переоденусь.
- Что? Погоди, мы туда не...
Она уже расстегивает рубашку Рокаморы.
Я понимаю одно: тут нам оставаться нельзя. Я очень рисковал, приведя Аннели в свой дом — но это мой единственный угол, и мне было больше некуда ее вести. А после ее выходки нам надо спрятаться и выждать — другого способа проверить, параноик я или нет, не существует. Конечно, не в Тоскане...
Пока она занята собой, я осторожно приоткрываю дверцу шкафа: мне понадобится шокер и комплект формы. Воровато и торопливо запихиваю в рюкзак маску, черный балахон, шокер, контейнер...
- Ого! Ничего себе масочка!
Она стоит у меня за спиной — футболка велика, штаны коротки, волосы взъерошены, глаза горят — глядя мимо аккуратно сложенной штурмовой формы на маску Микки-Мауса, которая висит на крючке у меня в шкафу.
Маска старая, отлитая из какого-то допотопного пластика, и краска на ней потемнела, растрескалась, пошла морщинами; обтянутый пергаментной желтой кожей, Микки-Маус выглядит на свой возраст. Вряд ли хоть какой-нибудь ребенок согласился бы надеть маску сейчас; но детей никто и не спрашивает.
Я гляжу на Микки-Мауса, пытаясь вспомнить, как глядел на него, когда был совсем мелким. Когда жил на первом из трех этажей интерната. В анимационных фильмах мышь всегда улыбалась, и я повторял за мышью; на ней я и учился улыбаться. Мне очень хотелось понять, почему Микки-Маус веселится, чему радуется — я не мог. Старался почувствовать то, что чувствовал мышонок, и не мог. Но мне, наверное, до сих пор кажется, что он знает секрет детского счастья. Барыжа им, Микки-Маус и выстроил свою империю на сотни миллиардов. Триста лет назад его парки развлечений процветали — народу через себя они прокачивали побольше, чем Ватикан. Но потом и те, и другие остались без клиентов: верующие образумились, а дети исчезли, как вид. Церкви, мечети и луна-парки захирели, и их торговые площади были пожраны более трендовым бизнесом.
- Это у тебя откуда такая жуть?
- С блошиного рынка.
Империя рухнула, а от императора осталась посмертная маска, которую я купил за гроши у негра-старьевщика в Небесных Доках, базаре в облаках над гамбургским портом. Я тогда решил, что выручаю веселую мышь из небытия так же, как она когда-то вытащила оттуда меня. Теперь она — моя личная вещь, наравне с тремя комплектами формы Бессмертного, парой смен гражданки и рюкзаком.
- Давай сюда! — требует она.
- С какой это стати?
Но Аннели уже перетягивается через меня, срывает маску с крючка и надевает ее на себя.
- Ну ты что? Система же наблюдает за нами! Ты как думаешь, он-то не в розыске? — – Аннели пальцем проводит по растянутым в улыбке мышиным губам. — Бррр... Какой-то он весь засаленный...
- Осторожней! Это антиквариат! Ему лет двести, наверное...
- Не люблю старые вещи. Они чужими душами фонят! — заявляет она.
- Она же веселая. Маска. Это Микки-Маус.
- Не хочу даже думать, по каким случаям ты его надеваешь!
- Это просто сувенир...
- Нам не пора? Десять минут уже прошло, а ты обещал, что через пятнадцать нас уже загребут!
- Дверь... — нехотя командую я.
И через секунду Аннели оказывается снаружи.
- Подожди... Постой! — но она уже улепетывает от меня по галерее, мне приходится кричать на бегу. — Не надо! Я не хочу туда ездить!
- Почему это еще? — оглядывается на меня через плечо Микки-Маус, не сбавляя шага.
Потому что мне закрыт вход в эту волшебную страну, Аннели. Даже если мы приедем туда, мы там ничего не найдем. Я не могу попасть в край изумрудных холмов. Там будут руины, или залитые бетоном котлованы, или небоскреб на тысячу этажей. Но дело не только в этом...
- Мне не интересно! Это глупо! Это просто картинка, заставка! На ней могло быть что угодно, любое место!
Аннели достигает края галереи и, взявшись за перила, сбегает по лестнице. Двумя площадками ниже она останавливается на секунду. Задирает мышиную морду вверх и кричит мне:
- Но ведь мы и бежать отсюда можем куда угодно, так?
Времени двенадцать ночи; еще только начинается третья смена жизни, и едва очнувшиеся от снотворного сомнамбулы, выползая из своих кубов, обалдело глазеют на нашу погоню. Контингент в моем блоке невыдающийся — клерки один другого мельче, к дебошу эта живущая по расписанию плотва непривычна. Аннели-то проскочила мимо и канула, а мне в мой прудик, надеюсь, еще возвращаться, так что я держу свои специальные навыки при себе, стараюсь лишнего внимания не привлекать, не спешу слишком, поддаюсь; так ей удается домчаться до выхода из блока и вместе с квелой толпой выбраться наружу. Настигаю я ее только у самого хаба — потому что она начинает прихрамывать. Но когда я беру ее за плечо, она смеется.
- Ты еле ползешь! — кричит она мне, запыхаясь. — Ты черепаха! Давай, черепаха, вводи координаты! Какая туба нам нужна?
Нас уже всасывает в воронку хаба, вокруг миллион людей, они выпялили на девчонку в старинной маске свои глаза, они обложили нас своими ушными раковинами, и каждый наш шепот непременно угодит в эту ловушку. Я не могу сейчас спорить, не при такой прорве свидетелей. Так что я просто беру Аннели за руку, и послушно диктую коммуникатору координаты, которые она запомнила наизусть.
К гейту она меня тянет сама — на нижний уровень, сообщение на дальние дистанции. Экспресс «Римский Орел» отправляется каждые двадцать минут и делает тысячу километров в час; в Риме нужно сделать пересадку.
Поезд уже подан, до отправления — секунды. Он весь цвета ртути, вдвое шире и выше состава обычной тубы, и такой долгий, что голова состава сжата перспективой почти в точку. Последние пассажиры, докурив, исчезают в его чреве.
- Постой! Мы не можем туда ехать... Тебе туда нельзя!
- Это еще почему?!
- Потому... Тебе к врачу надо сначала... У тебя вся постель в крови была... — надо отговорить ее от этой бредовой затеи, и мне уже все равно, как. — Что они с тобой сделали? Бессмертные?
Микки-Маус смотрит на меня радостно, улыбка до ушей.
- Ничего. Ничего такого. И я не хочу об этом. Ты готов?
- Но...
- Не понимаешь, да? Ладно. Вот веселая игра: я больше не Аннели, а кто-то другой, так? — она стучит пальцем по своему черному носу-маслине. — Если мужчина, с которым я прожила полгода, оказывается не Вольф Цвибель, а какой-то террорист, почему это я обязана оставаться собой?
- Аннели...
- Я ничегошеньки не знаю о том, что стряслось с этой твоей Аннели. И ты будь кем-то другим, не Эженом, а кем хочешь. Аннели остается тут, а я поехала! — она вырывается и машет мне рукой.
- Погоди! Я не знаю, как мне покупать на тебя билет... Чтобы нас не засекли. Давай подождем следующего!
- Нет никакого следующего! Есть только этот! — она припускает к ближайшим дверям.
Без спросу прижимается к какому-то дистрофику в дизайнерских очках и вместе с ним проходит через турникет. Я еле успеваю вскочить на подножку — закрывающаяся дверь пищит недовольно, чуть меня не прищемив. Аннели в проходе благодарит раскрасневшегося очкарика, чмокает его своей маской в щеку. Я толкаю этого ботана плечом, забираю ее и веду вперед.
- Ты с ума сошла! А если контролеры? На дальних дистанциях они бывают! Тебя могут опознать...
Пол мягко светится, стены вишневые, по обе стороны коридора, за огромными овальными окнами — номера-купе с диванами белой кожи и ворсистыми коврами, внешние стены, снаружи непроницаемые, изнутри прозрачны.
- Придумаем что-нибудь. О, смотри, свободное купе!
- Это же первый класс! Идем хотя бы в другой вагон!
- Какая разница? У меня все равно нет билета. Будем считать, что у меня нет билета в первый класс!
И она решительно отодвигает прозрачную дверцу вбок. Первый класс до Рима стоит целое состояние и рассчитан на людей солидных; требовать у таких билет для входа — значит, сомневаться в их порядочности. Тут все на честном слове.
Первым делом Аннели скидывает кеды, погружает босые ноги в ворс.
- Супер!
И только потом задвигает дверь, командует окну в коридор затемниться и снимает маску. Под пергаментной кожей старой мыши — Аннели: юная, разрумянившаяся, лихорадочно веселая.
- Здесь-то камер нету.
- Хочется верить.
- Хватит параноить, уже не смешно. У тебя еще кузнечиков не осталось?
Я достаю второй пакет.
Она нетерпеливо раскусывает его, вываливает всех кузнечиков на шпонированный русским деревом стол сложной формы, потом делит кучу надвое ребром ладони — примерно надвое, отваливая себе чуть больше.
- Вдруг дико есть захотелось! — говорит она. — Налетай!
Беру кузнечика, отшелушиваю крылышки.
- Очень! — хвалит Аннели кузнечиков; набила ими себе полный рот и хрустит вовсю, забыв, кажется, что крылья считаются несъедобными. — Ну давай, рассказывай! Что там в этой твоей заставке такого особенного?
Я жую — намеренно, через силу: во рту сухо, кусок в горло не лезет.
Вслед за белым кроликом я протиснулся в черную нору, в нору, куда взрослый человек не пролезает; для ребенка все обернулось бы волшебным путешествием в страну фантазий, а взрослый застрянет и погибнет под завалом карстовых пород.
Это вид из окна дома, сложенного из кубиков, Аннели. Когда я был маленьким, я придумал себе, что это мой дом, а идеальная пара в летних одеждах, которая качается в креслах-коконах на лужайке — мои родители.
Но мои приемные родители — давно умершие второсортные актеры, и между ними ничего не было: в лучшем случае перепихнулись между делом на съемках. Мой дом — декорация, построенная в павильоне. А эти зеленые холмы, и часовни, и виноградники, это...
- Ладно, у меня к тебе разговор посерьезней, — перебивает меня Аннели; наконец она снова серьезна, и я весь подтягиваюсь, готовясь врать.
- Да?
- Я вижу, у тебя с аппетитом проблемы. Ничего, если твоих кузнечиков тоже съем я? — и, пока спрашивает, она уже сгребает мою кучку себе.
- Бери, конечно, — рассеянно говорю я. — О чем разговор?
- Отбой, разговор уже состоялся, — она отправляет себе в рот очередную порцию, уже из моих. — А ты думал, мы сейчас о смысле жизни побеседуем?
Надо, наверное, попробовать эти таблетки. Зря я ими пренебрегаю... С Аннели они сделали настоящее чудо, а мне хватило бы и фокуса.
- Чего, интересно, у тебя такая кислая рожа? Каждый день в первом классе по всей Европе катаешься? — Аннели растягивается на диване. — По сравнению с твоей халупой — настоящий пентхаус! Жаль, что всего полтора часа ехать!
- Нет.
- Нет — не жаль?
Нет, в первом классе я бывал всего раз — на задержании одной парочки, которая тоже думала сбежать от проблем; и нет, я не катаюсь по Европе: обычно я не пересекаю границы сферы ответственности нашего звена.
- Жаль. Жаль, что поддался и поехал с тобой.
- Ау! Там есть еще другие каналы? Я бы переключилась.
- Где?
- У тебя в голове. Ты все время говоришь одно и тоже. Одна программа — про то, что Аннели в опасности, а вторая — Эжен — Эжен ведь, да? — не хочет ехать в Тоскану. Скукотень.
- Извини, я не могу не думать о том, что нас вот-вот сцапают...
- Конечно, можешь. Потому что сцапают не нас, а Эжена и Аннели, а мы-то совсем другие персонажи, мы ничего о них и не знаем. Так что расслабься.
- Бред!
- А у тебя вообще все в порядке с фантазией, а? — хохочет она.
Я встаю со своего места, подхожу к стене-окну. Двойная магнитная колея, по которой скользит наш поезд, цепляясь то к одной башне, то к другой, впереди закладывает вираж, набирает высоту, поднимаясь над смогом, напитанным светом рекламы, и разворачивая нас на юго-запад; и навстречу нам по ней издалека бесшумно мчит такой же могучий состав, струя расплавленного металла. Вот обратный поезд, говорю я себе. Оттуда можно вернуться. Это просто небольшая турпоездка.
- Ты не Аннели, ладно, — сдаюсь я. — А кто ты?
- Лиз. Лиз Педерссен. 19А. Из Стокгольма.
- И что ты делаешь в первом классе римского экспресса, Лиз?
Она подтягивает ноги, подмигивает мне.
- Убегаю из дома.
- Зачем?
- Влюбилась в итальяшку, который торгует нелегальными электродами-нейростимуляторами. Папа сказал, что я могу быть с ним только через его труп.
- И что, ты избавилась от папы?
- А что мне оставалось? — смеется она. — Но итальяшка того стоит. Настоящий мастер стимуляции.
- Я ему завидую. Он будет тебя встречать там, в Риме?
- Да. Но у нас с тобой еще целый час! За час многое можно успеть. Только расскажи мне сначала о себе.
- Патрик.
- А фамилия у тебя какая?
- Дюбуа.
- Прекрасная фамилия. В Париже у каждого второго такая.
- Патрик Дюбуа 25Е, — уточняю я и заминаюсь.
- Да у тебя хорошо язык подвешен, Патрик! Знаешь, что сказать девушке.
Я жую щеку, стараюсь не глядеть на ее перемазанные маслом губы, на ее коленки, на тонкую шею, торчащую из круглого разреза футболки.
- Придется тебя пытать, Патрик. Чем занимаешься?
- Я... Врач. Геронтолог. Изучаю проблемы старения.
- Ого! А ты-то что делаешь в первом классе? Вот вопрос! Клиентов у тебя осталось — по пальцам пересчитать, и все сидят на социальном пособии. С такой работенкой тебе еле должно на кузнечиков и воду хватать. Хотя... — она переворачивает пустую упаковку, вытряхивает крошки. — Не удивлюсь, если ты на самом деле рассказываешь про себя. Ты ведь это придумываешь, я надеюсь? Так не по правилам!
Что, если я сейчас предложу ей другого себя? Ян. Ян Нахтигаль 2T. Безродный. Бессмертный. Как она будет играть со мной после этого?
- Но это даже красиво, вообще-то, — смеется она. — Бедный ученый, который занимается какой-то устаревшей ерундой. Ты все-таки романтик. А сколько тебе лет?
- Триста, — говорю я. — Когда я начинал заниматься своим делом, оно еще не было устаревшим. Тогда геронтология была самой востребованной наукой.
- Молодчага! Такой упертый! — хвалит меня она. — И отлично выглядишь для своего возраста. Ну-ну, что ты покраснел?
- А тебе сколько... Лиз?
Она картинно отмахивается.
- Что за вопросы? Важно только то, на сколько я выгляжу, разве нет? Ну, допустим, пятьдесят. Но мне ведь столько не дашь?
Глаза ее набрали полный сок, заблестели, щеки порозовели.
- А ты помнишь еще свою мать?
- Что?
- Ты говоришь, что тебе пятьдесят и у тебя есть отец. Значит, Выбор сделала твоя мать, так? Ведь пятьдесят лет назад Закон о Выборе уже действовал. Получается, если о тебе решил заботиться твой отец, то мать получила укол и умерла где-то сорок лет назад, так? Тебе было десять. Вот я и спрашиваю: ты еще ее помнишь?
- А ты свою?
- Я, Патрик Дюбуа 25Е, отлично помню, как выглядит моя мать. Она до сих пор жива, у нее милая квартирка над Гамбургом с видом на рыбный завод, и я навещаю ее по выходным. Выглядит она не хуже тебя. Деталь: из-за чертова завода у нее всегда стоит такая вонь, что в глазах темнеет, но мама ее даже не слышит. Зато везде, где пахнет рыбой, для меня дом.
- Ну вот, видишь? Молодчага! — хвалит меня Аннели. — Заработала фантазия!
Она проводит по лбу тыльной стороной ладони, сбивая волосы набок, потом сцепляет руки на животе. Вдыхает глубоко, не выпускает воздух долго, ее глаза стекленеют.
- Все в порядке? — спрашиваю я.
- Кофе... Сэндвичи... Горячий обед... — долетает из коридора.
- Все супер! — улыбается Аннели. — Просто живот скрутило. От голода, наверное, — она выглядывает в коридор и испускает радостный клич. — Ахой! Там едет робот с жратвой!
- Теперь твоя очередь, — напоминаю ей я.
- Ты как, все еще не созрел перекусить?
- Что там с твоей матерью, Лиз?
- Не могу сказать! — она жмет плечами. — Потому что я больше не Лиз. Я теперь Сьюзан Штром 13B. Так же известная как Сьюзи Шторм, налетчица и грабительница поездов, гроза железных дорог!
Она нацепляет маску Микки-Мауса, делает из пальца пистолет и босая выбегает в коридор.
- Стоять! Это ограбление! — вопит она в коридоре.
Кидаюсь за ней; но уже слишком поздно. Сьюзи Шторм тащит упаковку горячего обеда, перехватывая его из руки в руку и дуя на обожженные пальцы, робот растерянно и уныло взывает к ее благоразумию... Микки-Маус смеется в голос — по-детски озорно и счастливо.
С роботом я все же расплачиваюсь — несмотря на протесты Аннели Шторм. Она поручает мне стеречь добычу («Тут есть твоя законная доля, Патрик!») и отправляется в туалет. Я остаюсь один, прислушиваюсь к себе: слышу стук — тюк-тюк-тюк. У меня внутри яйцо, и что-то стучится в его скорлупу.
За стеной-окном на тысячекилометровой скорости сотни башен становятся одной неохватной темной башней, столпом мироздания, и огромные экраны с рекламой сотен товаров, без которых невозможно человеческое счастье, сливаются в одно стремительное радужное течение, в великую реку мерцающих огней, в Амазонку пиксельных фантазий, которая и есть это придуманное счастье. Я вхожу в эту реку, завороженный, и плыву в ней, не думая о том, что когда поезд остановится, она пересохнет и снова превратится в рекламные супербилборды таблеток, одежды, квартир и отпусков в других небоскребах.
Никогда не надо думать о том, что будет, когда поезд остановится.
- Уважаемые пассажиры. Приготовьте, пожалуйста, ваши билеты и удостоверения личности для контроля, — раздается в коридоре мелодичный женский голос.
Миг — и рюкзак в руках, и шокер ложится в ладонь привычно: тело думает за меня, оно уже знает, как быть дальше. Но использовать шокер против контролеров... К тому же, тут и полиция должна быть, на поездах дальнего следования они всегда дежурят... Где Аннели? Главное, чтобы нас сейчас не разлучили... Оглядываюсь на диван, на ее место...
- Предупреждаем: безбилетники будут сняты с поезда и подвергнуты жестокой казни! — объявляет тот же самый голос — совсем рядом.
Коротко, как под огнем, выглядываю в коридор. Аннели стоит там, сразу за окном, прижавшись к стене, прячась от меня. Больше — никого.
- Поверил? — улыбается она.
- Конечно, нет!
Потом мы лопаем этот горячий обед — креветки, японский салат из водорослей, маринованная морская капуста — просто молча, сидя друг напротив друга и глядя в окно. Оказывается, я тоже проголодался. Я всем от нее заражаюсь.
Пейзаж не меняется: черно-неоновая туманность пролетающих башен на первом плане, дробное мельтешение мчащихся дальних башен на втором, в редких просветах — проскакивающие силуэты совсем далеких башен на третьем. Вся Европа одинакова — забетонирована и застроена; но я уже начинаю забывать о том, что пункт назначения нашего путешествия наверняка будет похож на точку отправления. Я начинаю забывать о том, куда и зачем мы едем. Хорошо бы, это была кругосветка по закольцованному пути. Хорошо бы, эта поездка продолжалась всегда.
Перед Римом экспресс делает единственную остановку — в Милане. Прибывая к Милано-Чентрале, поезд теряет скорость, Аннели вжимает в стену, меня чуть не бросает на нее.
- Меня к тебе тянет неизвестная сила, — шучу я.
- Я заметила, — откликается она. — Если бы учился как следует, знал бы, как она называется.
- Я, между прочим...
- Контролеры!
- Что?
- Контролеры! Там, на платформе! Их там целая дивизия, блин!
- Нет уж, хватит, больше ты меня не...
И тут я их вижу: не дивизия, конечно, но не меньше роты. В неприметных серых костюмах и шапочках, цепью растянулись по перрону, заняли позиции точно по разметке — состав остановится дверьми ровно напротив каждого, все выходы будут перекрыты.
- Я же говорил тебе...
- Без паники! — Аннели натягивает маску Микки-Мауса. — Мы же в Сопротивлении, нет? Кровавому режиму нас так просто не взять!
Она сует ноги в сандалии, берет меня за руку и мы бежим к выходу. Но двери открываются, прежде чем мы успеваем до них добраться — и путь нам перегораживает смуглый толстяк с черными усами щеткой:
- Билеты!
- Билеты! — слышится с другой стороны.
- Нас окружили, — шепчет мне Аннели. — Но живыми мы не сдадимся! Не сдадимся ведь?
Вытаскиваю из рюкзака, сую в карман: заманить одного из них в пустое купе, оприходовать его там и оставить за затемненным окном, выиграть время — и пока остальные не успели понять, что происходит, соскочить с поезда.
Но для этого мне нужна помощь Аннели — а она опять играет в какую-то свою игру: открывает все номера-купе подряд, кланяется всполошившимся пассажирам и идет дальше, оглядываясь то и дело на приближающегося контролера. Для пузатого усача ее маневры не остались незамеченными, но не может пропустить ни одного номера.
- Какого черта ты там делаешь? — шиплю я, но она не обращает внимания.
Вдруг она пропадает. Штурмую чужие купе, нахожу ее только в пятом или шестом. Ничего не могу понять: Микки-Маус сидит у окна, а в проходе стоит Аннели — раскрасневшаяся, веселая.
- Помаши Патрику рукой, Энрике! — она треплет человека в маске по плечу.
Микки послушно поднимает руку и машет мне. Аннели посылает ему воздушный поцелуй и стучит по запястью, где у всех нормальных людей коммуникатор, левой руки указательным пальцем правой: «Позвони мне».
- Теперь спокойно... — она чинно берет меня под локоть, выводит в коридор — и тут же тянет за собой в соседнее купе, по счастью, пустое.
- Кто это? Кому ты отдала мою маску?
- Тссс... — она прижимает палец к губам. — Твой маус пожертвовал собой ради нашего спасения. Подыщешь что-нибудь более подходящее для своих ролевых игр!
- Уважаемые гости! «Римский экспресс» отправляется через одну минуту. Следующая станция — Рим, — приятным баритоном извещает нас старший стюард.
- Если мы сейчас не сойдем, они нас загонят!
Я выхватываю шокер, делаю шаг в коридор — но Аннели вдергивает меня обратно.
- Да потерпи ты! Пушку бы достал еще!
- Я так и знал! — гремит из соседнего номера. — Думали, спрячетесь от нас? Ну-ка, снимите маску!
- Ни за что! Да, билета у меня нет, но маска тут при чем?
- Снимайте живо эту мерзость, а то я вызову полицию! Это незаконно!
- Я протестую! Я могу наряжаться, в кого угодно, это мое конституционное право! Это я сейчас вызову полицию!
- Бежим! — дергает меня Аннели, и мы проносимся мимо купе, где тщедушный человек-мышь отчаянно борется с толстяком контролером, и успеваем выскочить на платформу за секунду до того, как поезд отправляется в Рим.
- Кто это? — допрашиваю я ее, когда мы уже смешались с толпой. — Как ты его завербовала?
- Тот паренек, в очках, который провел меня в поезд, — она смеется. — Такой милый, настоящий рыцарь.
- Да что ты вообще... И ты ему сказала свой ай-ди?
- Ага.
- Он же может заложить нас полиции! — а сам думаю совсем о другом: с какой это стати она раздает свой ай-ди направо и налево ?
- Я так и думала, что ты будешь ревновать, поэтому дала ему ай-ди Сьюзан Штром, — хлопает меня по плечу Аннели.
Я собираюсь заспорить: какая еще, к черту, ревность? — но мне на самом деле приятно это слышать, приятно такой глупой мягкой приятностью, и я забываю свои возражения.
- О! Да ты, никак, улыбаться хочешь научиться?
- Я умею улыбаться, — размеренно произношу я. — Я нормально улыбаюсь.
- Ты в зеркале себя видел?
- Я перед ним и учился!
- О! Да ты и шутить умеешь?
- Да пошла ты!
Она показывает мне средний палец, я показываю средний палец ей.
- Что-то ты себя не ведешь на триста лет. Прибавил немного, чтобы казаться солиднее? — смеется она.
Тубу до Флоренции приходится ждать, и мы коротаем время в вокзальной кафешке, где нет ничего, кроме кофе и мороженого. Аннели, прячась за журналом, наворачивает джелато, я ищу в трейдоматах темные очки побольше: надо спрятать ее от системы наблюдения. Благо, на региональных маршрутах можно покупать анонимные билеты.
Во флорентийском хабе нужно сделать еще одну пересадку — и опять ждать: какие-то сбои на трассе. Состав прибывает в конце концов — но почему-то совсем крошечный и изношенный, по хромированным бортам надпись «Резервный», сиденья — пухлые, обитые красным плюшем, рукоятки металлические и все исцарапанные, окошки круглые и подслеповатые, половина ламп не работает. Откуда-то из прошлого его достали, этот маленький поезд, и подали нам с Аннели, потому что новые тубы, отлитые из стеклокомпозита, сверхскоростные — не ходят туда, куда мы пытаемся попасть.
- Трамвай! — уверенно говорит Аннели, хотя это никакой, конечно же, не трамвай.
И вот этот разболтанный скрипучий поезд тащится по чужому маршруту, и фонит чужими душами, но Аннели спит у меня на плече и ничего не чувствует, а мне даже нравится его излучение — мне кажется, оно меня согревает. И я сам незаметно для себя начинаю верить, что наш «трамвай» сумеет выбраться за частокол башен до небес, найти тайную тропу из этого гигаполиса — за город, туда, где будет виден горизонт, и где на горизонте я не увижу ничего, кроме нежно-зеленых холмов, оранжевых коробок виноделен и часовен, кроме неба, залитого градиентом от темно-синего к теплому желтому. Наверное, он сделает остановку прямо у дома, сложенного из кубиков, высадит нас и почухает себе дальше.
Я чуть не засыпаю, убаюканный ровным дыханием Аннели, но вот коммуникатор сигналит мне, что мы прибываем в пункт назначения — и я выглядываю из круглого иллюминатора. Хочу убедиться окончательно: резервный поезд привез меня в другое измерение — туда, где все осталось нетронутым с того самого дня, как я покинул отчий дом.
Но ровно в том месте, где, по нашим расчетам, должен располагаться дом с развевающимися на ветру занавесками, шелковистая лужайка с креслами-коконами, откуда должна начинаться уходящая в ночную дымку увенчанная домиками холмистая гряда — раздавив все это своей чугунной жопой, сидит самая огромная и самая уродливая башня из всех, что мне когда-либо приходилось видеть. Она так велика, что под ней погибла разом вся округа, и нет ни малейшей надежды, копая совочком грунт у ее подножья, обмахивая его археологической кисточкой, найти хотя бы осколок моих воспоминаний и снов.
- Башня «Ла Беллецца», — бухтит в микрофон машинист. — Конечная.

- Здесь ничего нет! Я же говорил — ничего не осталось. Поехали обратно!
За иллюминатором — станция «Ла Беллецца». Неожиданный пафос: черный гранит, золотые буквы в каком-то ископаемом шрифте, огромные портреты полузабытых звезд — тех самых гаитянских зомби, которых наследнички поднимают из могил, чтобы сдать их трехмерные чучела в аренду видеостудиям.
- Вот уж дудки! — Аннели вскакивает с сиденья и выбегает наружу. — Мы не за тем тащились две тыщи километров, чтобы вот так взять и уехать!
- Куда ты?..
К противоположной платформе подлетает сверхсовременная туба, из распахнувшихся дверей на станцию хлещут люди в пестрых костюмах; в глазах от них рябит. Аннели лавирует между ними, разноцветными фишками на расчерченном на квадраты белом поле, я должен нагнать ее, остановить — но мне в руки попадаются только посторонние, не имеющие ко мне отношения люди — брюнеты с лоснящимися волосами, по моде забранными в хвосты, глаза за очками-каплями, поджарые южанки в майках с капюшонами, а Аннели все ускользает — и попадается мне только у самых лифтов.
- Вот! — торжествующе восклицает она, указывая пальцем куда-то вверх. — Я тебе говорила?
Поднимаю голову — и вижу огромный, в три человеческих роста высотой рекламный баннер: «Парк и заповедник «Фьорентина». Нулевой уровень башни «Ла Беллецца». Снизу приписано: «Тут снимались видео, ставшие легендой»
- Послушай...
- Погнали!
Я не хочу в этот парк. Мне нельзя туда. Подожди, пожалуйста...
Но уже пришел лифт — большой, под старину, с круглыми кнопками-лампочками для каждого из пятисот этажей и с затуманенными зеркалами в стенах. Напротив нулевого уровня, действительно, маленькая латунная табличка — «Парк Фьорентина». Шипящий тугоухий динамик перевирает какой-то древний блюз. В углу целуется парочка — две девушки; одна из них, белокурая, во фраке и в ботфортах, другая — стриженная под мальчика, в бальном платье. В руке у нее пузырится магнум шампанского.
Аннели сразу жмет нулевой, кнопка проваливается, но лифт не движется с места.
- Почему в парк не едет? — Аннели рушит идиллию этим двоим.
- Сейчас закрыто. На ночь, — отрываясь от своей раскрасневшейся подруги, та, что во фраке, оценивающе оглядывает Аннели.
- Это почему?
- Потому что это собственность медиагруппы. Все нижние уровни — съемочные павильоны. А парк — там же все живое. Им спать надо.
- Все живое хочет спать! — пьяно смеется из-за ее спины девчонка в бальном платье. — Аж зубы сводит! Шампанское будете?
- Конечно! — отвечает Аннели.
- Нет! — одергиваю ее я. — Мы узнали, что хотели. Парк закрыт. Поехали домой!
- Ну-у... — тянет белокурая, наматывая локон на палец. — Мы знаем тайные тропы, которые туда ведут. Вам в него очень надо?
- Очень! — заверяет ее Аннели.
- Видишь, Сильви, зубы сводит не только у тебя, — хохочет та. — Парк... Чертовски романтично. Спуститесь до второго, оттуда по пожарной лестнице. На входе код, четыре нуля. Для климат-контроля и освещения код тот же.
Лифт уже падает вниз.
- Вы просто добрая волшебница! — Аннели целует белокурой руку. — Чувствую себя Золушкой...
- Ты даже не представляешь, что чувствуют ее золушки... — хихикает та, что в бальном платье.
- Только принцы все повывелись, — сетует волшебница во фраке, бросая на меня единственный скептический взгляд. — Вот тебе мое прощальное напутствие: переходи на принцесс.
И уже второй уровень.
Белокурая жмет самую высокую кнопку, коленом в ботфорте врезается своей подруге-мальчику между ног, и они уносятся в вышину, а мы остаемся одни.
Аннели держит в руках трофей — огромную бутыль с шампанским.
- Ты все-таки ее стянула?
- У них и без вина все в норме! — заявляет она. — На, понеси, она тяжеленная!
- Я вообще-то не пью шампанское...
- Вон пожарный ход! Кто быстрей добежит?
Она рвет с места — и налегке достигает финиша первой. И по лестнице я ее тоже должен догонять с этой бутылищей; считаю пролеты: пять, десять, двадцать, двадцать пять... Между вторым и нулевым уровнями — метров сто. Я уже выдыхаюсь, но в Аннели вселился веселый бес, и она не чувствует усталости.
Наконец мы у заветной двери; все так, как сказала нам добрая волшебница. Четыре нуля открывают портал.
И мы оказываемся внутри чьего-то дома. На оштукатуренных стенах развешаны загадочные инструменты — все явно музейное; я узнаю грабли и, кажется, мотыгу. Большой деревянный стол, сколоченный из досок. Притрагиваюсь к нему, не веря. Посуда, расписанная наивным рисунком: тарелки, кружки... Все накрыто к трапезе. Бутылка красного вина в пыли. Красные яблоки в плетеной корзине. Горит живым огнем маленькая лампа.
- Смотри, как в кино! — Аннели тянется к яблоку.
- Не надо. Не трогай тут ничего.
- Эй! К шампанскому нужно что-то!
Она делает обманный ход и все-таки заарканивает яблоко. Пока я выставляю ее вон из дома через крашенную в синий дверь, она успевает прихватить еще и белую скатерть.
- Для пикника! — поясняет она. — Ну, и где тут все?
Мы выходим под черно-звездное небо, в беззвучие глубокой ночи. Я вспоминаю слова белокурой: тут все спит. Планета людей живет в три смены: нам было бы слишком тесно, если бы мы все синхронно засыпали вечером и просыпались утром. Поэтому треть из нас живет утром, треть вечером, и треть ночью. Европа никогда не смыкает глаз. Но в этом парке, похоже, действует искусственный режим. Коммуникатор показывает три ночи.
- Код доступа: ноль-ноль-ноль-ноль! — кричит Аннели. — Освещение! Утро!
И, подчиняясь ей, небо алеет, звезды меркнут, и солнечный ореол обозначает границу между небом и землей; а потом из-за самого его края медленно поднимается светило.
Я смотрю вокруг — и не узнаю ничего. Где мое детство?
Где наше общее детство с Девятьсот Шестым, моим названным братом?
Нет изумрудных холмов, нет часовен и виноградников; далеко передо мной расстилается дол, разлинованный на прямоугольники и трапеции частных владений. Течет, сквозь него, петляя, зеленая речушка. И под моими ногами вместо травы — песчаная площадка.
- Супер! — Аннели трет руки. — У тебя губа не дура. Где будем базироваться?
Я не отзываюсь.
Меня поманили в мое детство, и я поверил, что могу вернуться в него туристом. И вот — похоже, но... Но не мое. Гулко в голове, пусто в груди. Я обманут и хочу раскрыть обман.
- Ну? — пихает меня в бок Аннели. — Выбирай! Твоя заставка, тебе и решать!
Проворачиваю голову справа налево, выбирая из того, что мне не хочется и не нравится...
- Мне все равно.
- Тогда давай там! — она указывает место под раскидистым деревцем с серебристыми листьями.
Расправляет на траве скатерть, садится на нее по-турецки.
- Давай сюда шампанское!
Механически подаю ей бутыль. Она берет ее наперевес, прижимает к груди.
- Баю-баюшки-баю... — она качает ее, как запеленатого ребенка и прыскает со смеху.
- Зачем ты, Аннели, не надо так...
Солнце уже взошло; поверив ему, раскрываются цветы и принимаются щебетать птицы. Земля тут и правда живая, и все, что на ней.
- Мы целый мир подняли по тревоге, — рассеянно говорю я.
- Зато еще четыре часа он весь наш! Помоги открыть его, тут пробка тугая...
Откупориваю магнум, делаю глоток из горла, передаю ей. Он хлещет его так, будто я ее трое суток морил жаждой. Достает из-за пазухи сворованное яблоко, трет его о майку, передает мне.
- Закуси, веселей пойдет!
Беру, взвешиваю в руке, кусаю...
- Это муляж, Аннели. Это композит. Оно несъедобное.
- Правда? Вот черт! Значит, придется пить всухомятку! — она прикладывается снова.
Солнце пригревает все жарче. Чувствую, как мне печет макушку.
- Ты не против, если я позагораю, раз случай выдался? — Аннели берется крест-накрест руками за подол и стягивает с себя футболку.
Мельком вижу ее маленькие крепкие груди, ее острые соски... Ложится на живот, подставляет спину искусственному солнцу. Обращает ко мне лицо, улыбается краешком губ. Спина у нее вся исполосована кошмарными царапинами, будто на нее псов спустили; но она об этом словно и не помнит.
Нежный ветер гладит мои волосы.
На меня вдруг наваливается чудовищная усталость — за все сутки, которые я провел на ногах; за мой поход на старичье и за уничтожение их секретного оружия, за мой акт ненависти с Эллен, который ни на секунду не заставил меня забыть об Аннели, за сорванную казнь Рокаморы, за тысячу рейдов, в которых я делал все, как надо, за всю мою жизнь.
Мне положен отдых, я его заслужил.
На распустившийся одуванчик прямо передо мной опускается бабочка с лимонно-желтыми крыльями; я слежу за ней завороженно. Бабочка машет крыльями, с них сыплется мне в глаза сонная пыльца, все плывет, звуки гаснут; бабочка перепархивает с цветка на цветок, и нежданно садится мне на руку.
В этот самый миг свет меркнет. Я засыпаю.
Первая моя мысль: я ослеп!
Я совершил неслыханное, и наказали меня так, как еще никого не наказывали. Пока я был в беспамятстве, мне выжгли глаза! Остаток жизни я проведу во тьме!
Так я думаю, потому что за все мои годы в интернате я ни разу не видел темноты: тут никогда не гасят лампы. Острый белый свет легко прорезает тонкие детские веки, протыкает наглазные повязки, которые нам выдают перед сном, протекает сквозь пальцы... Ведь в темноте мы остались бы наедине с собой, а мы всегда должны быть вместе. Так за нами проще следить — и так мы можем всегда следить друг за другом.
И вот сейчас я не вижу ничего. Вокруг меня совершенная чернота. Я открываю глаза — зря. Закрываю — никакой разницы. Раньше я мечтал о том, чтобы свет ослаб, ушел. Но теперь, когда его больше нет, мне страшно.
Я дергаюсь — сесть! — но бьюсь лбом о металл, едва оторвав голову от ложа. Хочу потереть ушиб — и не могу поднять рук. Не могу согнуть ноги в коленях! Они упираются в преграду — твердую, непреодолимую. Отодвинуть, отбросить ее от себя! Я только скриплю ногтями по гладкому железу, мерзкий звук; больше ничего.
Это потолок на меня опустился, висит в нескольких сантиметрах от моих глаз, от моей груди, почти касается пальцев ног.
Откатиться! — откатиться в сторону! Но справа и слева — стены, и места до них — с палец. Будь я чуть шире в плечах, я упирался бы в них, был бы зажат тут, как в тисках. Но все, что я могу делать сейчас — извиваться.
Потолок незыблем — его просто невозможно приподнять, он не откроется, не подвинется, как бы силен я ни был; и стен мне не пошатнуть тоже. Конечно, я не сразу это понимаю: вначале я мечусь, рвусь, кручусь, снова и снова ударяюсь лбом, пока горячее не начинает лить мне в глаза, пока все мои ногти не переломаны, не торчат корявыми заусенцами. Останавливаюсь, только когда воздух заканчивается — меньше, чем через две минуты.
- Выпустите!
Я лежу в тесном железном ящике, длиной и шириной ровно с меня, а высоты такой, чтобы я даже головы не поднял. Воздуха в нем было едва-едва, а теперь совсем не осталось.
От духоты и ужаса я мокну, сердце начинает биться спешно, мелко, легкие начинает тянуть от жажды, они работают скорей, скорей, скорей, пытаясь отжать из быстро скисающего воздуха хоть немного кислорода.
Снова царапаю крышку — пальцы скользят, я весь в поту.
- Выпустите меня!
Глохну от собственного крика: железо не пускает звук дальше, и он, тут же отразившись, лупит меня по ушам. Глохну и кричу снова, пока воздух не заканчивается совсем. Темнота глотает меня, и сколько-то времени — может, минуту, может, сутки — я толкусь вслепую по кишкам какого-то беспросветного кошмара. Насилу нахожу выход — и выпадаю снова в железный ящик.
- Выпустите! Выпустите меня, твари!
Хочется пить.
Тут все еще нечем дышать, но я отчего-то не умираю. Только притихнув, нахожу ответ: прямо за моей головой в железе есть дырочка толщиной с отверстие в медицинской игле. Через нее внутрь по капле течет теплый воздух. Еще час я пытаюсь повернуться так, чтобы струя текла мне прямо в рот; потом бросаю это безнадежное дело. Понимаю в конце концов: лучшее в моем положении — не делать ничего: так воздуха останется достаточно, чтобы думать. И я застываю, и думаю, думаю, думаюдумаюдумаю.
Они просто пытаются испугать меня. Они слышат мои крики: я ору так, что меня нельзя не услышать. Они ждут, когда я запрошу прощения, когда сломаюсь — чтобы великодушно меня простить. Ждут, что я перевоспитаюсь и стану ласковым, как Тридцать Восьмой, бессовестным, как Двести Двадцатый, и, как Триста Десятый, никогда больше не буду ни в чем сомневаться. Вот что им от меня надо.
Так вот: хер вам! Слышите?!
- Хер вам!
Не стану плакать, не буду умолять выпустить, не вздумаю больше унижаться. Пусть даже сдохну! Я уже умер один раз, когда меня душили ручные макаки Пятьсот Третьего. Нет в этой смерти ничего такого.
Вот вам ваш склеп! Жрите!
И все, кто боится даже вспомнить о нем после — жрите тоже!
Девятьсот Шестого, моего друга, они не сломали — он умер, но не сдался! — и меня им не сломать тоже. Я готов. И знаете, что?
- Спасибо, что вы меня сюда запихнули! Самое страшное, что вы могли со мной сделать, вы сделали! И что?! Да, я в гребаном ящике, зато я свободен! Потому что теперь я могу думать о чем угодно! Вот так! Свободен!
Начинает ныть живот: время завтрака. В интернате питание — строго по режиму, за девять лет, проведенные тут, желудок выдрессирован железно. Он уверенно производит сок и требует положенной дозы. В восемь утра — завтрак, в два дня — обед, в семь вечера — ужин, так устроен мир, так было испокон веков и так будет всегда. Не получив подачки, он начинает переваривать меня изнутри.
Голод я могу стерпеть. Я это не мое тело.
Я могу отвлечь себя.
Девятьсот Шестого уморили за то, что он не хотел понять, что его родители — преступники. А ведь это все, что нам надо о них знать, говорят нам вожатые. Их вина — в нашей крови; мы в ответе за их дела с нашего рождения. Мы вообще не имеем права быть, но Европа дает нам шанс искупить преступление наших матерей и отцов, исправиться.
Для этого надо слушаться всегда. Мечтать только о том, чтобы служить обществу. И помнить: оправдывать своих родителей — преступление. Любить своих родителей — преступление. Вспоминать их — преступление.
Помни об этом, и однажды, если ты сможешь пройти испытания и сдать все экзамены, интернат отпустит тебя.
Я играл по правилам столько, сколько мог. Но есть вещи, которые нельзя терпеть.
Я остался собой, но теперь я в склепе. И вот — все потеряно; и все дозволено.
Жестче наказать меня уже нельзя. Значит, я могу совершить теперь худшее из злодеяний. Сделать так же, как сделал Девятьсот Шестой. Вспомнить своих родителей... Помянуть их.
Из кромешной тьмы железного ящика я начинаю вышелушивать ядрышки стертых, подавленных, запрещенных мне самим собой образов. Подбираю спрятанные далеко-далеко выцветшие фантики-обрывки — картинки, голоса, сцены. Тяжело мне это дается: я так часто клялся всем, что ничего не помню о своей жизни до интерната, что сам поверил своим клятвам.
Собрать удается немного — какой-то дом с крашенными в белый цвет стенами, распустившийся в прозрачном чайнике цветок зеленого чая, лестница на второй этаж... И небольшое распятие, вырезанное из черного дерева, висящее на самом видном месте. Терновый венец выкрашен позолотой. Цветок плывет, преломленный зеленой водой и утекшим временем, но Христос, повисший на своем кресте, высечен в моей памяти твердо: наверное, я подолгу смотрел на него. «Не бойся, малыш, Господь добр, он оберегает нас, он нас с тобой защитит!»
Мама?
- Нельзя! — слышу я окрик.
Понимаю: свой собственный. Мне стыдно, что я это делаю.
- Предатель! Маленький ублюдок! Выродок! — ору я на себя, ору вслух — в мегафон железного ящика.
Мне жгуче стыдно, что я хочу посмотреть на свою мать.
Не могу пересилить свой стыд. Отступаю. Отвлекаю себя мыслями о другом.
Кручусь вокруг Тридцать Восьмого — предал или спас? — вокруг суки-Двести Двадцатого, снова и снова вокруг Пятьсот Третьего. Возвращаюсь в больничную палату, переигрываю все заново, по-другому распоряжаюсь пистолетом, заставляю его молить о прощении — и, плюнув ему в глаза, все равно убиваю; понимаю, что в действительности не убил и клянусь себе будущему, взрослому, отомстить, обязательно отомстить и Пятьсот Третьему, и его холопам, готовлю планы — подговорю, подкараулю, застигну; репетирую с ним по ролям его унижение, смакую его смерть в трех, пяти, десяти исполнениях. Но долго этим не побалуешься: ярость сжигает слишком много воздуха. Я начинаю задыхаться и оставляю Пятьсот Третьего в покое.
И тут же выясняется, что мысли о матери никуда не уходили, что я просто задымил их всей этой заведомо неосуществимой кровавой галиматьей. Как только Пятьсот Третий рассеивается, снова становится виден фон: она.
Прикусываю губу.
Высокие скулы, брови вразлет, светло-карие глаза, мягкие губы, улыбка, матовая кожа... Волосы, темно-русые, забраны назад... Синее платье, два холмика...
Сначала идет туго, но когда я уже составил ее фоторобот, удерживать его перед мысленным взором мне удается без труда.
Она улыбается мне.
«Мы с тобой всегда будем вместе. Иисус подарил мне тебя, ты — мое чудо. Я обещала ему сберечь тебя, и он будет охранять нас... Всегда...»
Модель «Альбатроса» — зачем-то я точно помню, что это именно «Альбатрос». Робот игрушечный по полу ездит... Утыкается в мою ногу в белой детской сандалии.
«Всегда».
Вот так.
Это мое, а не дом из кубиков. Это, а не чужая женщина в шляпе, не посторонний человек в льняной рубахе. Не кресла-коконы на ветру. Не брошенный велосипед. Не белый медведь. Теперь мне разрешено то, что мое.
Горячо и больно: через мои глазницы тащат колючую проволоку, целая бухта этой проволоки хранится у меня в голове, и всю ее надо размотать.
Вылезай, ма. Теперь можно.
Что-то разжимается у меня внутри.
Но за одним фантиком тянется другой — они склеены вместе так, что их не не разлепить, не разорвать.
«Тише-тише... Тише, малыш... Не плачь, ну не плачь, не плачь, пожалуйста. Хватит. Хватит! Я же говорила тебе — Господь нас защитит! Успокойся, успокойся... Ну-ну-ну... Он защитит нас от злых людей... Не плачь! Не плачь! Слышишь меня? Хватит! Пожалуйста, хватит! Ян! Ян! Прекрати! Хватит!»
Распятие на стене. Набрякшие веки. Смотрит куда-то вниз, мимо меня. Что тон там нашел интересного? Чайный цветок колышется... Дребезжит стеклянная посудина... Топот, грохот, грубые голоса...
Кишки скручивает.
«Давай убежим! — умоляю я маму. — Мне страшно!»
«Нет! Нет. Все будет хорошо. Они нас не найдут. Ты только не плачь. Ты только не плачь, хорошо?!»
«Мне страшно!»
«Тихо! Тихо!»
«Помоги, — тихо шепчу я ему тогда. — Спрячь нас!»
Он, как всегда, лишь отводит глаза.
Не хочу знать, что там дальше.
Начинаю считать в уме, до отказа забиваю голову цифрами, чтобы некуда было влезть околачивающейся подле меня матери. Считаю громко, вслух, дохожу до двух с половиной тысяч, потом сбиваюсь и бросаю. Возвращается голод — до рези, до судорог. Время ужина. Но есть и кое-что сильнее голода.
Мне хочется пить. Все сильнее и сильнее.
Слюни пересыхают, губы начинают гореть. Стакан воды бы. Или в туалете просто приложиться губами к крану. Да, так лучше — стакана может не хватить.
Ничего, потерплю.
Приложиться к крану и хлебать из него холодную воду. Потом набрать ее в пригоршню, умыться и пить дальше. Холодную, обязательно холодную.
- Дайте попить!
Они не слышат меня. Я черт знает где, они закопали меня в этом ящике, забетонировали, бросили. И эта струйка воздуха, эта ниточка, за которую я держусь — это не специально, это просто халатность. Им не нужно, чтобы я жил. Потому что если я отсюда выберусь, меня никто не заставит молчать.
- Дайте воды, гады! Твари!
Они не слышат меня.
Начинаю сваливаться в сон — но тут в темноте появляются белые пятна. Ближе, ближе, обступают меня... Маски. Черные дыры вместо глаз, черные клобуки вместо волос. Они нашли нас. Нашли меня. Никто нам не помог.
«Вот вы где. Вылезайте»
«Нет! Уходите! Пошли вон! Вы не имеете права...»
«Не бойтесь, мы не сделаем ничего плохого»
«Не трогайте нас! Не трогайте маму!»
«Просто проверка. Дайте руку»
«Нет! Нет! Я буду жаловаться! Вы не знаете...»
«Дайте сюда ребенка. Дайте сюда ребенка!»
Мама вцепляется в меня отчаянно, пытается не отпустить — но держит недостаточно сильно, и сила многократно большая забирает меня у нее, поднимает под потолок... Я смотрю в черные дыры.
Нет ничего жутче этой маски. Мне кажется, что за ней — пустота, что меня может втянуть через эти дыры внутрь, и я пропаду в них, и никогда уже не вернусь к матери.
Потом путаница; слова, которых я не знаю, подменяются словами, которые не имеют смысла; что-то о начатии, о Дне рождения, какая-та ерунда насчет права и лева.
Я слежу за разговором с чужих рук, мне больно от того, как они меня стискивают, и я ненавижу этих пришельцев, их маски, так люто, как только способен мальчик трех лет.
Живот глухо болит, все тише и тише; желудок с урчанием гложет мое собственное тело, но я уже не чувствую этого.
«Кто его отец?»
«Это не ваше дело!»
«Значит, мы должны...»
Может, и не так. Может, я пропустил что-то, или что-то стерлось, или я сам это стер. Эта часть разговора высыхает и распадается на части, словно склеенная слюнями. Я сглатываю — не могу сглотнуть. Во рту слишком сухо.
- Пожалуйста! Пожалуйста, дайте воды!
Глухо. Мертво.
Стрелка скорости времени падает на ноль. Я бодрствую с закрытыми глазами и сплю с открытыми. Думаю, ничего уже хуже не будет; а потом мне приспичивает по большому.
Мне удается сколько-то потерпеть, потому что думаю — вот позорище будет, когда меня наконец отсюда выпустят. Наверняка вожатые будут всем говорить, что это я от страха обделался. Может быть, старший прямо на утреннем построении это объявит, выведет меня перед строем и все расскажет... Этой мыслью мне удается заставить себя удерживаться еще несколько часов, хотя как мерить часы в темном железном ящике?
Потом меня прорывает, я плачу и говорю: «Нет, нет, нет», а из меня вопреки этому толчками выходит остро пахнущее говно. И все, что я могу поделать — это брезгливо приподнять руки, чтобы не замарать хотя бы их, и перестать дергаться, чтобы не извозиться в нем всему. Я успокаиваю себя: в этом нет ничего такого, все это было у тебя же внутри, велика беда, что теперь ты в этом барахтаешься! Вонь я перестаю чувствовать довольно скоро — всего через несколько часов...
Говно высыхает.
Проваливаюсь и всплываю.
- Воды! Пожалуйста! Пить!
Кажется: если не сделать хотя бы глоток — чего угодно глоток, чего угодно — сейчас сдохнешь.
Но вот только никак не дохнешь.
- Хотя бы глоток! Суки! Один глоток! Вам жалко?! Жалко?!
И вот воздух опять кончается, и я плачу, и последние капли, которые надо было беречь, уходят через глаза. А потом глаза иссякают.
Я жалею, что обмочился и не догадался собрать мочу в ладони — может быть, мне удалось бы донести ее до рта. Жалею, что не утерпел, пописал, израсходовал зря столько влаги перед тем, как заключить в сортире мой пакт с Двести Двадцатым. Мечтаю, что она все еще во мне — соленая, горячая, любая — но там я тоже пересох.
Бьюсь головой о крышу, о крышку — на! на! на! — и теряю сознание, добиваюсь того, чего хотел. Потом через забытье прорастает сон, и сон мой о воде. Я в сортире накануне побега, я пью, пью, пью из под крана — что-то горячее. Темно ведь — так что мне ничего не видно. Может, это моча, может, кровь, а может, зеленый чай.
Просыпаюсь с жаром.
Плывет по воздуху огромный чайный цветок. Я поднимаюсь по трапу огромного «Альбатроса», гордого межгалактического корабля...
Он защитит нас. Отдайте ребенка. Я ему обещала тебя. Кто его отец? Он убережет нас от злых людей. Мы вынуждены. Не бойся! Иди сюда! Не смейте! Я не хочу! Помоги нам! Не плачь! Спрячь нас! Тихо! Замолчи! Нет!
Он не слышит меня! Он не слышит меня, мама!
Ты обещала, он обещал, все обещали, и все врут! Он спит или сдох, или ему насрать на нас с тобой, он не собирается вмешиваться, или он трус и слабак! Он меня не слышит — а скорее, притворяется, что не слышит, чтобы не вмешиваться! А они — слышат все, они нашли нас, и ни ты нас не смогла спрятать, ни он.
Отдайте ребенка. Отдайте.
Кто его отец? Не ваше дело.
Кто мой отец? Кто мой отец?! Где был мой отец, когда меня забирали?! Он вообще у меня был?!
Не бойся. Не плачь. Не бойся. Не плачь.
Он защитит тебя. Он убережет нас. Он предал нас. Он заткнул уши. Он спрятал глаза. Он позволил меня забрать. Он меня сдал им. Он тебя погубил.
И знаешь, что? Знаешь, что, мама?!
Поделом тебе, дуре! Как ты могла поверить этому на кресте?! Он мог отвести этих в масках в сторону, и не отвел! Мог укрыть нас — и не укрыл! Что это еще за бог? Что это за никчемный пустой трусливый бог?! Мученик херов! «Иисус терпел — и нам велел», так ты говорила!
Не ваше дело. Не ваше дело?!
Да ты признала бы, признала, что просто не знаешь, от кого я! Признала бы, что у меня нет отца! Что ты их не считала, своих мужиков! Что ты всем подряд давала, и поэтому не можешь указать на виновного! Поделом тебе, шлюхе!
Но мне-то за что это?! Я почему должен мучиться?!
Я ерзаю, размазывая дерьмо, и вою, вою — и кричу, кричу — а может, не издаю ни звука. Потом я снова падаю в черную пустоту, и болтаюсь посреди ничего, и дерусь с Пятьсот Третьим, и убегаю от масок, и меня насилуют публично на утреннем построении, и я поднимаюсь по трапу недособранного «Альбатроса», который никуда не полетит, и меня бьют в комнате для собеседований, и я заперт в доме с распятием, и в дверь стучат, и я бегу на второй этаж, чтобы спрятаться там в стенном шкафу, но лестница не заканчивается, в ней миллион ступеней, и я бегу и бегу и бегу, и все равно не успеваю, и падаю вниз, в руки человека в маске...
Почему я?! Почему я должен платить?! Что я сделал?!
Почему меня забирают?! Почему меня запирают в интернате?! Несправедливо! Пусть она платит за себя сама! Пускай мой гребаный отец явится и заплатит! Почему я?! Почему они блядуют, а наказывают меня?!
Зачем ты вообще сделала меня, мама? Зачем ты родила меня? Надо было делать аборт, надо было сразу же принять таблетку, и спустить меня с кровью в пустоту, пока я был безмозглым клубком клеток, а если ты поняла все позже, надо было выковырять меня по кускам столовой ложкой и выбросить в магазинном пакете на помойку! Зачем ты сохранила мне жизнь? Ты ведь знала, что меня ждет, что делают с такими, как я! Ты ведь знала, что за твои грехи платить придется мне!
- Выпустите меня! Выпустите! Выпустите меня отсюда!
Девятьсот Шестой не просил пощады — и сдох, идиот. А может, и просил — и все равно подох. Раз он такой гордый, мне на него плевать! А я хочу выбраться отсюда! Мне надо выйти из этого ящика!
- Умоляю! Отпустите меня! Пожалуйста! Ну пожалуйста...
Снова сон, и опять этот дом: обеденный стол, чайный цветок, белые стены, печальный Иисус, веселый робот, модель звездолета, наступление беды, кулаки молотят в дверь. Я уже знаю, что сейчас будет, я хочу сигануть в окно — там подстриженная лужайка, там коконы-кресла, там холмы — прыгаю и бьюсь, и режусь осколками... Только это экран, за ним нет никаких холмов, нет никакой лужайки, нет никаких настоящих родителей вместо матери-потаскухи и отца-кобеля, паскуды, предателя. И я сижу у горящего, искрящего экрана, а люди в черных балахонах, в белых масках подходят ко мне ближе, ближе...
- Выпустите!
Мне тесно, мне тесно, мне душно, душно, душно тут!
Срываю голос, плачу сухими слезами, верчусь в гробу. Прошло три дня, или четыре, или пять, как считать время в темном железном ящике?..
Чуть-чуть только думаю о Девятьсот Шестом: как он умирал? О чем бредил? Какие слова сказал самыми последними?
И опять этот дом, опять этот дом, и я не могу сбежать, и эта надменная скотина на кресте не поможет мне, он опять наврал моей идиотке-матери, а она опять поверила, и меня опять заберут, и опять будут душить, и опять уложат в железный ящик...
Наверное, только на тысячный раз я понимаю, как спастись из этого кошмара: когда за мной опять приходят люди в масках, я перестаю драться, кусаться, перестаю требовать, чтобы нас отпустили. Я успокаиваюсь, смиряюсь, сдаюсь — и когда меня подносят к черным дырам, в которые меня тащит чудовищная, неодолимая сила, отцепляюсь от мамы — кружусь и несусь в пустые глазницы, и прохожу в них, и умираю, и воскресаю по ту сторону маски, и смотрю глазами чужого человека на перепуганного мальчишку, и на его русоволосую мамашу в синей хламиде.
Нет, не чужого.
Это я отнимаю зареванного сопливого пацана у его матери-истерички.
Я — человек в маске, а кто этот малец, мне дела нет. Я — человек в маске, и я теперь могу выбраться из этого заколдованного дома.
- Ненавижу тебя, шлюха! — я бью женщину в синем по лицу наотмашь.
Я отрываю от стены распятие и швыряю на пол. Я затыкаю рот вопящему пацану.
- Пойдешь с нами!
И ухожу из их проклятого дома — на свободу.
Не знаю, сколько еще проходит часов — один или сто — прежде чем меня достают из склепа. Я этого даже не понимаю: мои глаза высохли и не видят света, мой ум усох и не постигает спасения, моя душа обезвожена и не может радоваться.
Потом меня накачивают водой и свежей кровью, ко мне начинают возвращаться чувства. Вот первое: Девятьсот Шестой сдох, а я выжил, выдержал!
Я выдержал склеп, и больше меня не сломить ничем. Я заново научусь ходить, боксировать и говорить. Я стану лучшим во всем. Я буду заниматься так старательно, как только сумею. Буду делать все, что от меня потребуют. Я больше никогда не вспомню ни робота, ни цветка, ни лестницы, ни светло-карих глаз, ни мягкой улыбки, ни бровей вразлет, ни синего платья. Я пройду оба испытания. Я стану Бессмертным и больше никогда не увижу интернат.
В лазарете меня никто не трогает, все пялятся на меня с благоговением; иногда после отбоя кто-нибудь спросит шепотом, что там такого страшного, в склепе — но мне становится трудно дышать, даже когда просто слышу это слово.
И как мне объяснить им, что там было такого страшного? Там был я.
Так что я молчу, не отвечаю ни на один из заданных мне вопросов.
Я похож на тень, руки и ноги не слушаются меня; меня кормят жидким, освобождают от занятий. Через два дня я могу сесть в постели. Два дня вокруг меня водят хороводы почета все пацаны, даже старшие, а добрый доктор наряжается в свою лучшую улыбку, когда осматривает меня — как будто мне не речь отшибло, а память, как будто это не он, попивая кофеек, смотрел, как меня старались удавить.
А на третий день я вдруг становлюсь никому не нужен.
Всех моих почитателей-ротозеев сдувает, они гурьбой бегут, возбужденно перешептываясь, встречать в первую палату кого-то нового, кого-то более интересного, чем я. Спрашиваю, что там такое невероятное — но мой голос еще не окреп, его никто не улавливает. Тогда я спускаю с койки свои былинки-ноги, переставляю их раз, другой — хочу посмотреть, что там за чудо такое... Но его уже ввозят в нашу палату.
Доктор, который толкает его каталку, с ним груб. Свору-свиту, которая пытается окружить, поглазеть на новичка, разгоняют тычками и оплеухами по койкам.
Если я — тень, то он — тень тени. Весь в грязи, покрытый коростами, расчесами, волосы всклокочены и склеены. От его тела осталось так мало, что непонятно, куда там умещается жизнь. От подвижного, заводного мальчишки остались только два глаза. Но эти два глаза горят — упрямо. Он не может ни говорить, ни двигаться, ящик отжал из него все силы, но в глазах нет ни тумана, ни поволоки. Он в полном сознании.
Мне требуется несколько долгих секунд, чтобы узнать его, и несколько минут, чтобы поверить в то, что я вижу.
Это Девятьсот Шестой.
Живой.
В мешке был не он. Может быть, там вообще никого не было.
Я должен быть рад его видеть.
Его ставят рядом со мной. Вот она, возможность, которую я однажды потерял и о которой так потом жалел — сделать признание, протянуть ему руку, стать его другом. Чего уж естественней — сейчас, когда мы прошли через одно и то же, когда поняли все о своем прошлом и о своей глупости — наконец стать друзьями и союзниками?
Он поворачивает ко мне свою голову — до смешного большую в сравнении с изможденным тельцем — и...
Улыбается. Десны кровоточат, зубы пожелтели.
Его улыбка для меня ледяной душ, удар током. Все, что могло во мне улыбаться, вышло из меня в железном ящике вместе с потом, слезами, кровью и дерьмом. Остался сухой концентрат; ничего лишнего. Почему же Девятьсот Шестой тогда еще умеет так делать?
Он что-то беззвучно говорит мне.
- Что?! — переспрашиваю я, может быть, чересчур громко — так, чтобы все слышали.
Но он не сдается. Снова разлепляет спекшиеся губы и настойчиво сипит, будто ему нужно донести до меня нечто крайне важное.
- Не слышу тебя!
Он облизывается — губы остаются сухими. И повторяет, повторяет в своем диапазоне, который мое ухо воспринимать отказывается, пока у меня не получается прочесть то, что он произносит, по губам: «И глухие услышат».
Тот самый фильм. Фильм, начало которого мы столько раз молча пересматривали с ним вместе. Воображаемая семья с вакансией для ребенка. Наша тайная, одна на двоих, мечта. Наш с ним заговор.
Я понимаю теперь, почему не рад Девятьсот Шестому, почему меня напугала его улыбка. Я почувствовал в нем это, как только его вкатили в палату.
Он хочет сказать: «Выберемся отсюда, айда в кинозал смотреть «И глухие услышат», но это слишком длинно и слишком трудно. Поэтому он упрямо твердит одно название, пока до меня не дойдет, что он имеет в виду.
Киваю ему.
Девятьсот Шестой мечтает все о том же. Его завинтили в ящик задолго до меня и вытащили через два дня после, а он продолжает гнуть свое.
Мне хватило моего срока, чтобы отречься и от настоящих родителей, и от воображаемых; Девятьсот Шестой хочет вернуться в дом из кубиков, не зная, что я сжег его и вытоптал всю траву, которая вокруг него росла.
Он напрягается, тужится до посинения и хрипло выцарапывает на больничном воздухе: «Она хороший человек. Не преступник. Моя мать». Вся палата давится своими шепотками, а Девятьсот Шестой победно щерится и роняет голову на подушку.
Мы не сможем стать друзьями. Мы никогда не будем больше вместе смотреть «Глухих».
Я ненавижу его.
- Эй! Ты что, уснул?!
Травинка щекочет мне щеку.
- Я? Нет!
- Не ври, ты уснул! Быстро говори, что тебе снилось? — Аннели тычет меня лезет мне стебельком в ноздрю.
- Отстань! Какая разница?
- Ты улыбался. Хочу знать, что там тебе такое приятное привиделось.
- Мой брат, — я сажусь, тру глаза. — Сколько я спал?
- Полминуты. Извини, мне тут как-то скучно одной валяться. У тебя есть брат? Как его зовут?
- Базиль, — произношу я это имя впервые за долгое время. — Базиль.
- Далеко он? Может, позовем его тоже, раз он такой распрекрасный?
- Не выйдет.
- Почему?
- Хочешь шампанского?
Поднимаюсь за бутылкой — и меня пронзает.
Я понимаю.
Мы просто стоим сейчас на противоположной стороне того пейзажа. Мы вышли из обмазанного терракотой сарая при винограднике — сидящего на одном из холмов, которые видны из моего окна. Пожарная лестница вывела нас не в дом из кубиков, а прямиком на несбыточные холмы вдалеке.
Я там, куда всегда мечтал попасть. Куда мы всегда мечтали попасть с Девятьсот Шестым. А дом с окнами, из которых выбились занавески, лужайка с качающимися креслами — где-то там, внизу, в долине передо мной. Всматриваюсь пристально...
Вижу его! Вижу!
- Пойдем! — кричу я Аннели. — Пойдем скорее!
Хватаю шампанское в одну руку, хохочущую девчонку в другую — и мы стремглав летим вниз по склону.
Реку мы переходим в брод, разувшись. Вода теплая, вокруг наших ног снуют какие-то рыбешки, Аннели требует купаться, но я уговариваю ее потерпеть: осталось чуть-чуть.
Она так и не оделась, но совсем не смущается своей наготы.
- Что ты там такое заприметил? — Аннели прикладывает руку козырьком к глазам, вглядываясь вперед.
- Совсем близко уже... Видишь — там дома? На первой линии — такой прямоугольный, видишь? Давай туда наперегонки!
- Тогда так: кто залезет в него первый, загадывает желание! — с хитрющей улыбкой выдвигает свое условие Аннели.
- Идет!
И мы бежим, что есть мочи бежим к стоящему чуть поодаль от остальных вилл строению; оно точно такое же, как в том фильме: открытые окна, выпростанные прозрачные занавески...
Слышишь, Базиль, я все-таки вернулся!
Я вернулся, Базиль! Ты дома? Я познакомлю тебя со своей подругой, ее зовут Аннели. Ты не будешь против, если мы тут поживем? Я бы взял отпуск ненадолго... Как думаешь, вдруг эта киностудия ищет сотрудников? Мы могли бы работать смотрителями парка, а жить прямо в нашем доме...
Даже кресла на месте. Пустые, свободные — для меня и для нее. Последний рывок... Еще метров тридцать...
- Эжен! Постой!
Я оглядываюсь на нее, не сбавляя хода — и меня крушит. Я падаю наземь, оглушенный, голова раскалывается, шею прошила боль, рука вывернута, колено саднит. Ничего не соображаю. Что случилось? Сажусь, трясу головой, словно после бассейна.
- Это же экран! — хохочет она. — Ты правда не знал?
- Что?..
Ползу вперед, протягиваю руку. Стена.
Стена, на которую спроецирована вся перспектива: остаток долины, усадьбы с участками, платановые рощи, дорожная сетка, дом из кубиков и лужайка с креслами. Великолепный экран: граница реальности — край света — почти незаметна.
Башня «Ла Беллецца» — наверное, самая большая из всех, что мне доводилось видеть, но и в нее не уместить целый мир. Дом моих приемных родителей почти влез в этот музей, почти спасся — ему не хватило всего пары десятков метров. Он погиб, остались одни фотографии.
Не верю своим глазам. Трогаю экран.
- Так нечестно! — ко мне подбегает Аннели. — Туда нельзя залезть! Выходит, никто не может загадать желание! Ты жулик!
Нельзя постучать в дверь, нельзя узнать, есть ли там кто. Некому соврать, что когда-то очень давно я тут жил. Нельзя напроситься или влезть внутрь. Никто не может загадать желание.
Я сажусь на траву, приваливаюсь спиной к стене, за которой земля заканчивается. Вид отсюда почти такой же, как с лужайки. Вот, Базиль, я все же пришел. Я смотрю на эти холмы за нас обоих.
- Хватит ржать! — она тычет мне пальцем в бок. — Ничего смешного!
Но я не могу остановиться. Смех рвется из меня, как кашель из туберкулезника — неостановимо, раздирая мое горло и мои бронхи. Я смеюсь взахлеб, у меня сводит живот от этого смеха, скулы затекли, глаза слезятся, я хочу перестать, но из солнечного сплетения опять и опять выходит судорога за судорогой, и я продолжаю корчиться от смеха. Глядя на меня, Аннели принимается хохотать тоже.
- Что... Что... с-смешного? — пытается выговорить она.
- Этого дома... Н-нет... Я же... Гово... рил... Это... глуп-по...
- А... Что... Это... Что это за... Дом?
- Это... Это... Когда я был... Маленький... Думал, что это.... Это мой дом... Что там... Что там живут... Мои родители... Х-ха... Х-ххха...
- Х-хаахаа!
- Это смешно... П... Пппотому что... Пппотому что у меня нет р-р-родителей... П-понимаешь? Нет! Я ин-н-нтернатский!
- Да? Хааах! И я т-тоже!
- У м-меня никого... Нет... Пппонимаешь? П-поэтому смешно!
- А б... А б-брат?
- Он умер! Умер! Так что его тоже нет... Хххаааа...
- А-аа... Поняла! А теперь... А теперь и дома типа нет, да? Ххха!
- Ага! Смешно же, ппправда?
Она только кивает дергано — до того это все уморительно. Потом машет рукой, пытаясь успокоиться, утирает слезы.
- А меня Бессмертные из-з-знасиловали! — делится она, улыбаясь широко, как Микки-Маус. — В-впятером! П-представь?
- Ого! Вот это... Вот это да... Хааах!
- Я б-б... бее... бе-е-е-е... - она катается по земле. — Ой, не могу! Бее-бееременна была! Выкидыш случился!
- Д-даа ладно?!
- Ага! Ххха... И м-мой... Муж... Мужжжж... Просто... Просто оставил м-меня им... И сбеж-ж-ж-жал! Прикинь?
- Класс! — я задыхаюсь. — Супер п-просто!
- И меня это почему-то... Почему-то... Все это... Совсем не... Совсем... Ну то есть вообще не... Черт, смешно как...
- А мой б... брат... Он из... Из-за м-меня... Ум.. Ум... Это я его... Пред... Предал....
- Молодец! Молодец! Хааахаа!
- И... Не звонит... Мой... Вольфф... Как будто... Понимаешь? Хахха! Какая я дура! Как будто я ему... Чуж-жая!
- А я... Я знаешь, что? Я думал... Представил себе... Что мы тут... Вдвоем... Ты и я... Можем тут жить... В этом... В этом парке... Ну... Ну не идиот? Хахха!
- Идиот! Идиот! Ой! Ой все, хватит! Все, больше не могу!
- Сама не знаю... Что на меня нашло...
Киваю неопределенно; из моей груди еще лезет «хххых... ххххых...», но уже слабее. Набираю побольше воздуха и закупориваю себя наконец.
Аннели откидывается на траву, смотрит в небо. По ее впалому животу, матовой коже в мурашчатых пупырышках, пробегают последние волны затихающей бури. Ее лицо вполоборота — лукавый блеск в глазах.
- Эй... Ты чего на меня так смотришь? — негромко говорит мне она.
- Я... Я не смотрю.
- Я тебе нравлюсь?
- Ну... Ну да. Да.
- Хочешь меня? Скажи правду.
- Не надо. Не надо, Аннели. Не так...
- Из-за Вольфа, да? Или как там его... Ты же его друг, так?
- Нет. То есть да, но...
- Иди сюда. Иди ко мне. Сними с меня эти кошмарные штаны, которые мне купил...
- Постой. Правда, я... Ты не понимаешь, я тебе...
- Он меня им оставил. А когда его отпустили, он просто ушел. Ему плевать было, что они со мной сделают! Понятно?! Плевать на меня и на нашего ребенка!
- Аннели...
- Иди сюда! Ты хочешь меня или нет?! Мне нужно сейчас, понимаешь?! Нужно!
- Пожалуйста...
Она срывает с меня рубашку, расстегивает мои брюки.
- Я хочу, чтобы ты в меня вошел.
- Я напоил тебя таблетками счастья!
- Плевать!
- У тебя истерика!
- Снимай свои чертовы портки, слышишь?! Живо!
- Ты мне нравишься! Очень нравишься! Честное слово! Ты под таблетками, Аннели. Я не хочу, чтобы мы с тобой так...
- Заткнись! — шепчет она мне. — Иди сюда...
Подтягивает колени к подбородку, снимает с себя трусики, остается нагая на зеленой траве. Приподнимает таз, тянется мне навстречу... У меня голова кругом; солнце в зените. Она сдергивает, стаскивает с меня белье. Теперь мы оба голые, белые. Обнимает меня за ягодицы, направляет...
- Видишь... А ты говоришь — не хочешь... Ну...
- Зачем... Зачем... Не надо...
На одном из холмов возникают человеческие фигурки: экскурсия. Наверное, парк уже открылся. Они замечают нас, показывают, машут нам руками.
- Там... На нас смотрят... — говорю я Аннели.
А рука моя сама ищет ее; два пальца в рот, облизываю, чтобы...
И вдруг наваждение проходит.
- У тебя кровь, Аннели. У тебя там кровь.
- Что?
- Тебе надо к врачу. Вставай. Нам надо ехать к врачу! Что они с тобой сделали? Что с тобой сделали эти ублюдки?!
- Подожди... Обними меня хотя бы. Пожалуйста. Просто обними... И мы пойдем... Пойдем, куда скажешь...
К нам уже кто-то шагает размашистой походкой возмущенного человека, который твердо вознамерился пресечь бедлам. К черту его! Я слишком много задолжал этой девчонке.
И я опускаюсь на землю рядом с Аннели, и осторожно, как будто она сложена из бумаги, обнимаю ее. А она прижимается ко мне всем телом и — ее трясет, бьет так, будто она умирает, будто это агония. Я держу ее, придавливаю руками к себе — грудь к груди, живот к животу, бедра к бедрам.
Она наконец плачет.
С криками из нее исходит бес счастья, со слезами вытекает чужое семя. Остается ничто.
- Спасибо, — неслышно шепчет она мне. — Спасибо тебе.
- Это возмутительно! — орут у нас над ухом. — Это частное владение! Немедленно покиньте территорию парка!
Мы, оба ошеломленные, кое-как собираемся, беремся за руки и взбираемся на холм, к вратам. Возбужденные экскурсанты показывают нам большой палец, провожают нас шуточками.
Перед тем, как покинуть парк, я окидываю его последним взглядом.
Вижу дом из кубиков; вспоминаю распростертую на траве девчонку, ее глаза и ее соски, колени... Она изгнала из Тосканы призраки моих воображаемых родителей и моего названного брата.
Отныне тут безраздельно царствует она. Аннели.

- Ты показал мне свой родной дом, теперь я хочу показать тебе свой.
Аннели не шутит; одержимость прошла, и она стала сама собой. Но то, что она предлагает — чистое безумие.
- Мы не поедем в Барселону.
- Потому что в новостях все время твердят, что Барса это ад на земле?
- Потому что там нечего делать! Потому что тебе срочно надо к врачу!
- Там есть врачи!
- В Барселоне? Шаманы, ты хочешь сказать? Или какие-нибудь шарталаны-кровопускатели! А тебе нужен хороший специалист, который сможет...
- Ваши доктора ничего не помнят о болезнях, потому что вы не болеете! Хорошие специалисты — в Барсе, потому что в Барсе — живые люди!
Жители нашей Утопии почти не болеют; тут она права. Инфекции побеждены, наследственные заболевания стерты из наших генов, а остальные недуги приносила старость. Даже травмы сведены к минимуму: частного транспорта нет, и повсюду мягкий композит, о который нельзя разбиться. В резервациях для стариков, конечно, другое дело — но это их дело, а не наше.
- В любой большой клинике тебе смогут...
- Я приду в любую большую клинику и скажу: нелегальная беременность, групповое изнасилование, потеряла ребенка? В Барсе отличные врачи, и я еду туда! А ты — как знаешь!
Однако своими врачами Барселона славится в последнюю очередь. Куда известней она как дьяволова клоака. Цитадель мошенничества и наркоторговли. Полиция туда не суется и вообще делает вид, что все творящееся в Барселоне никак ее не касается. Законы там не действуют никакие, и главный недействующий из них — Закон о Выборе. Все рейды, которые пыталась проводить там Фаланга, кончались дурно. Если Бессмертным случалось оказываться в Барселоне меньше, чем звеном, их просто ловили и вешали на видном месте. А Бессмертным умирать никак нельзя.
У меня за плечами рюкзак, в котором комплект черной формы, маска Аполлона, сканер личности, табельный шокер и инъектор. Выбросить ничего из этого я не имею права, спрятать тоже: обязан иметь все при себе на случай срочного вызова. Если я собираюсь жить, в Барселоне мне с моим добром нельзя показываться и за версту. Мои доводы просты и понятны. Жаль, я не могу их озвучить.
Зато идти за Аннели я не обязан. Она так и говорит мне: ты не обязан. Хочешь, иди по своим делам; у меня есть мужчина, и он должен быть тут, со мной, он, а не ты.
Все логично. Самое время сойти с поезда и вернуться к себе.
Я как-то видел познавательный фильм по каналу о живой природе... Есть такие мухи-пираты, забыл где там они живут, которые откладывают свои яйца в живых пчел. Яйцо развивается, превращается в личинку, пухнет, растет внутри пчелы... Завладевает ей. Пчелы, обычно дисциплинированные как роботы на каком-нибудь японском заводе, живущие строго по расписанию, обязанные инстинктом возвращаться с заходом солнца в свои соты, вдруг начинают вести себя странно. Просыпаются по ночам, покидают улей, летят неизвестно куда и пропадают без следа; иногда их видят исступленно бьющимися в лампочки, словно они и не пчелы, а мотыльки или мошка. Это помешательство заканчивается всегда одним: личинка перерастает хозяина, из пчелы вылупляется муха, разорвав выеденное изнутри чужое тело, как скорлупу.
Понимают ли пчелы, что с ними происходит? Пытаются ли бороться с чужой личностью, которая подселяется к их собственной и принимается хозяйничать в их теле? Или считают, что это они сами не могут уснуть ночью, что им самим необходимо бежать из своих казарм, стремиться на свет или на край света?
Я не могу сказать. Я сам — такая пчела, но у меня нет ответа.
Мушиная личинка во мне ворочается, неразборчиво отдает сумасбродные команды, и я должен удовлетворить ее настойчивые позывы. Я вылетел из своего улья, когда должен был спать, и пьяными виражами несусь вниз, к земле. Мой ум в тумане, и мои приборы шкалит. Я — просто оболочка для непонятного, неизвестного существа, которое растет и крепнет во мне, и требует быть с Аннели, и оберегать ее, и во всем ей потакать.
Она тянет меня, манит, как фонарь ночью, как открытый огонь.
Но я хочу сгореть и хочу пропасть.
Поэтому мы уже подъезжаем к Барселоне вместе с моим пчелиным рюкзачком, так что, надеюсь, никто в него там не заглянет. Едем долго, региональными тубами, пересаживаясь в каких-то курортных башнях, продираясь через толпы туристов в шлепанцах и с полотенцами, которые фотографируются на фоне спроецированных пальм и нарисованного океана.
- Ты как? — я беру ее за руку.
- Нормально, — бледно улыбается Аннели.
Ближе к Барселоне контингент меняется: места загорелых путешественников в тапках на босу ногу занимают разномастные типы в просторном тряпье. У кого-то бегают глаза, у других они, наоборот, остекленели и застыли; третьи сидят бандами, смачно чавкая какой-то дурью, задирая проходящих мимо. Где-то вспыхивает драка; я кладу руку на плечо Аннели, другой обнимаю рюкзак, в котором лежит шокер. Хотя тут шокер меня не спасет.
Через ряд от нас медный араб с выбритым затылком уставился прямо на меня, жует свою жвачку медленно, сплевывает на пол тягучую зеленую слюну.
- Не смотри на них, не беси их, — советует мне Аннели. — Гляди в окно. Вот она!
Барселона застроена двумя сотнями цилиндрических башен-близнецов, выкрашенных в яркие неоновые цвета и установленных на громадной серебристой платформе, придавившей весь прежний город. Все, что осталось от старой Барселоны, от ее бульваров и проспектов, вычурных домов и соборов — все накрыто платформой. Там, под высокотехнологичной могильной плитой, находится Дно — самая зловещая из трущоб.
Башни стоят через равные промежутки, образуя прямоугольник — пятьдесят небоскребов в длину, сорок в ширину. Каждая маркирована двумя громадными греческими буквами: «альфа-альфа», «сигма-бета», «тэта-омега» — это ее имя; все вместе они похожи на колоннаду античного храма, размытого временем и превращенного находчивыми реставраторами в детский парк развлечений.
С одной стороны Барселона упирается в океан, а с других охвачена двухсотметровой прозрачной стеной, которую все зовут стеклянной. Говорят, стена на столько же уходит и под землю — для умников, которые пытались прорыть тайные лазы в Европу.
Только в одном месте в этой гладкой и неприступной стене — не из стекла, разумеется, а из непробиваемого композита — проделано отверстие. Ворота в Барселону. Под этим единственным входом-выходом — сто метров скользкой пустоты, и столько же — над ним. К воротам прямо по небу подходит пара магистралей, по которым сюда и влетают редкие поезда. Другого пути в Европу для жителей Барселоны нет — и это бутылочное горлышко легко закупорить.
Ажурный мост через облака насквозь пронзает прозрачную стену от земли до небес... Раскидывается над землей, среди радужных башен-цилиндров, мчит, пока не примкнет к одной из них, снежно-белой; к транспортному хабу прекрасной веселой Барселоны.
Замысел был такой: сделать это проклятое гетто непохожим на гетто — с оригинальной архитектурой и в жизнеутверждающей гамме. Ведь Барселона — ворота Европы, и именно отсюда должна была начинаться новая прекрасная жизнь для миллионов несчастных беженцев. Думали переформатировать их души визуальным искусством; построили тараканам разноцветные домики. Идиоты: лучше бы приучали их работать.
Раньше всех этих африканцев, арабов, индусов и русских перло сюда еще больше: они ведь, как дохли миллиардами, так и дохнут, а у нас тут любой водопроводный кран — источник вечной юности. Риск оправданный: даже если через десять лет вежливых разбирательств тебя с извинениями отправят на родину, от старости ты уже вакцинирован.
Когда Беринг стал министром, он первым делом огородил Барселону как следует. Так что теперь где у этих путь в Европу начинается, там и заканчивается.
А потом он перекрыл им воду. Построили им опреснители — кругом море, высосите хоть все! — но из нашего водопровода они больше не получают ни капли. Результат незамедлительный: перестали раздавать нелегалам бессмертие, как бомжам — бесплатный суп, и приток сразу срезался втрое. На следующих выборах Партия удвоила свои мандаты в парламенте. Беринг знает, что делает.
В Барселоне сразу стало меньше бессмертных, и больше живых. Аннели права.
Допрыгались, паразиты.
Туба ныряет в метровое композитное стекло, попадает в другое измерение. В параллельный мир, где смерть еще в своем праве.
«Уважаемые пассажиры! Наш поезд прибывает в Барселону. Напоминаем вам, что импорт любых жидкостей, в особенности питьевой воды, на территорию Барселонского муниципалитета строго воспрещен и карается тюремным заключением сроком до пяти лет!»
Вкатываемся на станцию: все стены исписаны революционными лозунгами и изрисованы мужскими причиндалами. Открываются двери. Дух протеста шибает в ноздри прелой мочой. По обе стороны платформы — буферные зоны. Полицейский спецназ в темно-синем непробиваемом пластике обыскивает прибывших, вытряхивая их из просторных балахонов, просвечивает детекторами.
- Хорошо, хоть личность не проверяют, — говорю я Аннели.
- Не переживай, твою личность проверят, когда ты попытаешься отсюда выехать.
Это я не успел сообразить: всю дорогу сюда думал только о том, что случилось в Тоскане.
- Зачем тогда ты меня сюда затащила?
- Я устала. Устала бежать. Я хочу остановиться. Тут нас никто не тронет. Тут нас даже никто искать не будет. И камеры здесь точно не работают.
Подходит наша очередь на досмотр. Щетинистый лейтенант со здоровенным носом обводит мой рюкзак детектором. Один глаз у него закрыт окуляр-монитором, на который выводится картинка со прибора и всяческая прочая полезная всячина. Сначала свободный глаз подозрительно колется, потом начинает заворачиваться внутрь, словно ему тоже интересно, что там, у меня в рюкзаке.
- Отойдем, — говорит мне лейтенант. — Персональная проверка.
- Подожди меня! — кричу я Аннели.
- Тебе тут какого хера надо? — шепчет полицейский, заведя меня в раскладную кабинку со стенками-ширмами.
- Не твое дело, — говорю я.
- Все в порядке, Хави? — спрашивает кто-то из соседней кабинки.
- У тебя кто? — вопросом на вопрос отвечает мой лейтенант.
- Шпана магрибская.
- Задай ему жару, мы тут поговорим.
- Так точно. Ну-ка...
- Эу... Эу! Ты че делаешь, брат?! Ааа! Я же еще мальчик! ААААА! — вопят оттуда через несколько секунд.
- Ты не поверишь, где они только не провозят эту херову воду, — качает головой мой и под аккомпанемент из соседней кабины продолжает. — В общем, так. Давай поворачивай, пока не поздно. Ты что, не знаешь, что там с вашими делают? Мы тебя даже не найдем там!
- Спасибо, — улыбаюсь ему я. — Предупрежден, значит вооружен.
Он качает головой; за стенкой страдальчески верещит юный араб, обеспечивая нам интимность. Наконец вычислительный процесс в голове моего лейтенанта прекращается.
- Ну и пусть тебя там вздрючат, — шумно втягивает сопли он. — Кто-то должен поучить вас уму-разуму.
Я кланяюсь ему, он харкает на пол, на этом все. Аннели не сбежала; стоит за кордонами, высматривает меня в толпе.
- Сними комм, а то с тебя его кто-нибудь другой снимет, оглянуться не успеешь, — дает она мне совет. — Есть умельцы, которые это делают вместе с рукой. Айда, я знаю нормального врача в двух башнях отсюда.
Башни насквозь соединены галереями-травелаторами шириной с проспект: напольное покрытие должно как лента двигаться вперед с приличной скоростью, доставляя иммигрантов, восторженно очумевших от технологий будущего, из какого-нибудь бюро по трудоустройству в какой-нибудь центр приобщения к европейским ценностям.
Но тараканы распоряжаются разноцветными кукольными домиками по-своему: они в них срут. Для начала они разгромили все эти бюро и центры, а потом поломали травелаторы. Теперь проспекты-ленты мертво стоят, перемещаться по ним можно только на своих двоих, а прозрачный купол над травелаторами весь изгажен граффити. Освещение внутри, конечно же, не работает — лампочки вывинчены — так что из точки А в точку Б надо ползти по темному туннелю вместе с пряно пахнущей толпой, перетянув рюкзак на живот и постоянно держась за него одной рукой; в другой — Аннели.
Систему климатизации сто лет как украли, а вентиляция работает так: где смогли, в композите проплавили или проломали дыры, и через них с улицы тянет дымом. Зато отовсюду доносится музыка — какие-то африканские племенные песни в жестких ремиксах, муслим-рок, азиатский пульс и русское революционное техно. Все это накладывается друг на друга, образуя кошмарную какофонию, и поверх несмолкающим речитативом клеится гомон толпы: вот гимн хаоса.
До нужной башни мы добираемся живыми, и это мне кажется чудом.
Лифты не работают тоже, спасение только в одном: нам надо подняться всего на пару ярусов. Потом протолкаться еще по полутемным коридорам, в которых люди спят и жрут прямо на полу, и в завершение этого всего оказаться в самом конце очереди из двадцати человек, набившейся в комнатенку три на три метра.
В ней пахнет спиртом, хлоркой и еще каким-то древним средством, горькими лекарствами, человеческим молоком и молочным младенческим калом. В очереди мужчин нет; тут заверченные в желто-красные тюрбаны африканки, арабки в шароварах, индуски в модерн-сари...
И дети.
Приникшие к выпростанным растянутым грудям сосунки; ковыляющие, держась за материнский палец годовалые; вертлявые трехлетки. Я умею их классифицировать с первого взгляда. Глаз натренирован.
Вот Аннели треплет за щеку смуглую девочку с длинной черной косой, года два с половиной. Девчонка смотрит на меня серьезно, хмуро. Ее мать-индуска — неуместно благородной внешности, тонко и строго вычерченная, кабы не пошлая наклейка-третий глаз посреди лба, могла бы показаться какой-нибудь царицей в изгнании; воркует с дочерью, повторяя «Европа, Европа...»
Голову отдаю на отсечение — все дети тут незаконнорожденные. Схвати любого, ткни в него сканером — тот их даже не опознает. Ни одной души тут не регистрировали. А их мамашки пышут здоровьем и торчат в приемной у гинеколога явно затем, чтобы проверить, как там прибавляет в огромных коричневых животах их третий или четвертый початок; а может, хотят узнать, как им повернее залететь еще разок.
Кровь стучит маршевым ритмом.
Руки сжимаются в кулаки.
Приезжие отнимают у нас воздух и воду. Мы отказываем себе в продолжении рода — и ради чего? Место наших нерожденных детей занимают немытые попрошайки, заново распространяющие инфекции, которые Европа победила триста лет назад... Они лечатся за наш счет, не мытьем так катаньем получают тут прививку от смерти, они хотят паразитировать на нас вечно. И если мы не положим этому конец немедленно, прямо сейчас, скоро нам придется отказаться от бессмертия.
У меня за спиной — рюкзак. В нем — форма Бессмертного и маска Аполлона. Сканер личности и уколы акселератора. Забудь о смерти. Забудь о смерти. Забудь о смерти.
- Эй!
- Что?!.
- Ты вспотел весь. Тебе тесно? — это Аннели.
- Нет... Я... Да, накатило... Извини...
Негритянка с косичками качает на коленях губастого мальца с приплюснутым носом. Тот таращит на меня свои глазищи со снежными белками, скалит сахарные зубы. Был бы я тут не один, а со своими товарищами, отправился бы ты, малыш, в интернат и там бы скалился. Там бы из тебя сделали человека, а мамуле твоей впаяли бы акс; а если бы тебе повезло и ты однажды из интерната выпустился, из тебя бы вышел отличный крысолов. Нюх на своих у тебя должен быть развит, и Фаланга использовала бы тебя для норной охоты, засылала бы тебя в самые тесные крысьи лазы, куда больше никто не протиснется, а ты бы выносил оттуда за шкирку верещащую коричневую мелюзгу, и ей мы бы тоже отбивали память, вышибали спесь и учили бы ее травить себе подобных — и так, пока мы не легализуем всех ублюдков и не изведем всех их родителей, пока не защитим Европу от...
- Кто здесь Аннели? — кричит черная медсестра в нечистом халате, выйдя из кабинета. — Доктор сказал, у вас срочно, давайте без очереди.
Ее забирают у меня — Аннели — и мне больше не за кого держаться.
- У вас будет маленький? — склоняясь ко мне, с улыбкой шепчет индуска в сари.
- Я не знаю, — говорю я.
- Волнуетесь? Волнуетесь, я вижу! Не переживайте, все будет хорошо!
Говорит, говорит и гладит по голове свою дочь-двухлетку. Глаза у девчонки дьявольские, ярко-зеленые, волосы — жесткие, будто из нановолокна, и собраны в два огромных черных хвоста. До меня доходит: Европа — ее имя.
- Когда я была беременна Европой, я очень боялась. У меня несколько раз шла кровь, — зачем-то сообщает мне индианка. — У мужа опасная работа, иной раз не знаешь — живой он или убили. Все нервы вымотаешь, пока ждешь его. Один раз его принесли на порог и оставили умирать, в животе была дыра с кулак. Я была на шестом месяце; отыскала сестру, взяли его за руки и за ноги и понесли к доктору на двадцать этажей выше. Когда дотащили, я думала — все, малыша я потеряла. Все ноги были в крови. Но она сильная. Удержалась! Дети хотят жить, да, сеньор, и так просто их не уморишь.
- Спасибо, — говорю я, хотя хочу сказать «заткнись».
- Так мило, что ты пришел сюда со своей девушкой. Она очень красивая! Ты ее любишь?
- Я?
- Раз волнуешься за нее, значит, любишь! — уверенно заявляет индуска. — У вас, наверное, будут красивые детки.
- Что? Почему?
- Когда любишь, красивые детки родятся, — улыбается она.
- Соня! — выходит медсестра. — На осмотр.
- Посидите с Европой? — поднимается индианка. — Она вас не боится.
- Почему это она должна меня бояться? Но...
Но прежде, чем я успеваю сказать «нет», мамаша уже пропадает в одном из кабинетов. Зеленоглазая Европа без спросу забирается ко мне на колени. Пот течет у меня по вискам. Колено жжется и давит, словно на нем сидит не маленький человек, а какой-то индийский демон.
- Тебя как звать? — не глядя на меня, спрашивает демон.
- Эжен, — отвечаю я.
- Эжен, качай меня. По-жал-ста. Давай! Хочу как он! — Соня показывает пальцем на негритенка.
Она весит килограмм десять — и тонну. Нога сейчас отвалится. Что я здесь делаю? Как я сюда попал? Я поднимаю колено вверх и опускаю вниз.
- Ты плохо качаешь, — разочарованно говорит демон.
Негритенок показывает Европе лиловый язык. Чей-то ребенок начинает рыдать, расходясь и выдавая оглушительные визгливые пассажи. Мать не может его успокоить и через пару минут бросает это занятие вообще. Тонкий вой, как у дрели, которой мне сверлят череп, выбрав, где кость похлипче, и заходя через ухо.
- Тебе плохо? — со своим детским акцентом выговаривает Европа.
- Я в аду, — честно отвечаю я.
- А что это?
Я здесь из-за Аннели. Потому что не знаю, как оставить ее.
- Не болей по-жал-ста, — просит девочка и тянется, чтобы погладить меня по голове.
Ее пальцы раскалены. Она дотрагивается до моих волос — и мои волосы вспыхивают. Я хочу, чтобы она убралась с моих коленей. Спина мокнет.
Маленький бабуин с лиловым языком воспользовался моим паническим штопором, слез со своей мамки, забрался мне за спину и расстегивает мой рюкзак. Хватаю его за руку, сдергиваю с дивана, сую его под нос этой раззяве.
- Держите это при себе, ясно? Он хотел меня обворовать! С детства растят своих...
- Эжен.
Аннели стоит надо мной — бледная, серьезная. Ее шатает.
- Все в порядке?
- Нет. Не все в порядке, — она кусает губу. — Можешь за меня заплатить? У меня нет коммуникатора...
- А... Это. Конечно. Тебя...
Она рассеянно следит за моими губами, словно ее контузило и она не слышит моего голоса.
- Мне сказали, что у меня не будет детей.
- ...отпускают или мы еще должны... — договариваю я начатое.
- Никогда.
Очередь из сборища одноклеточных мгновенно превращается в единый организм, состоящий сплошь из ушей и глаз; синхронно наводится на нас всеми своими чувствительными усиками, ложноножками и всем прочим; сначала притихает, всасывая услышанное, а потом принимается с урчанием переваривать его. Всем есть дело до того, что Аннели больше не сможет забеременеть.
- Ну... Ладно. Я сейчас. Слезай!
Освобождаюсь от Европы, иду платить за прием.
Значит, жизни Аннели ничего не угрожает; я-то боялся, что эти скоты сделали с ней что-нибудь посерьезнее. А дети... Куча народу добровольно стерилизуется, чтобы не рисковать. Зато никакая тварь вроде Рокаморы не провернет с ней такой грязный трюк еще раз; зато Бессмертным будет теперь нечего ей предъявить. Бесплодна — значит, вечно молода, вечно красива, всегда здорова. За все приходится платить, да. Но разве может бессмертие стоить еще дешевле?
- Вы ее жених? Мне очень жаль, — вздыхает медсестра, принимая оплату.
- Очень жаль?
- Она вам не сказала? — сестра прикрывает свой большой рот желтой ладонью. — У нее там... Мы сделали, что могли, но...
- Вы про бесплодие?
- У нас, конечно, просто гинекологический кабинет, но это вам везде скажут. Что с ней случилось? Так жалко девочку... Доктор говорит, шансов нет...
- Нет так нет. Можно о предохранении не заботиться, — пожимаю плечами я.
Медсестра ничего мне не отвечает, только раздувает свои широкие ноздри и отдается своему допотопному компьютеру, больше меня не замечая.
Я возвращаюсь к Аннели. Она смотрит в точку; витает в методических плакатах, которыми обклеены все стены.
- Я все. Пошли?
Хотел бы я знать, куда мы пойдем теперь.
Но мы не идем никуда: Аннели никак не может оторваться от плакатов. Это этапы формирования эмбриона. Очень интересно.
- Аннели?
- Да. Ладно, — и не двигается с места.
Забываю про зеленоглазую Европу, цепляю Аннели на крюк, движемся к выходу. Очередь никак не может отклеить от нас свои усики-глаза; сочувствие в них, что ли? Подавитесь вы своим сочувствием. Хлопаю дверью.
Шагаем кое-как, Аннели — отдельно, ее ноги — отдельно. Через пару десятков метров она и вовсе отпускается, и усаживается на пол.
- Тебе плохо?
- Он ведь сказал — никогда?
- Кто сказал? Ты о чем?
- Он сказал, детей не будет никогда.
- Ты из-за этого бесплодия? Да какая разница...
- Я ведь не хотела его. Вообще не хотела... — она бормочет так, что почти ничего не разобрать, мне приходится сесть на корточки рядом с ней. — Дети, кому они нужны...
- Тем более. Подумаешь, ерунда какая!
- Случайно получилось. Забыла принять таблетку... Боялась Вольфу сказать. Но раньше я не хотела, я сама не хотела, а сейчас... За меня решили. Решили за меня, что у меня никогда не будет ребенка. Странно.
Расселись мы неудачно: проход темный, несет дерьмом, по обе стороны — дверные провалы каких-то берлог, изнутри валит дурной сладкий дым, кажутся наружу мерзотные хари, любопытные нехорошим, голодным любопытством.
- Вставай, — говорю я. — Вставай, нам надо идти.
- Это как приговор. Даже если я захочу когда-нибудь, у меня его все равно не будет... Как такое можно решить за кого-то?
Они вываливают из своего логова один за одним — бледные шакалы, выцветшие без солнца — потому что солнце и небо эти ублюдки застили граффити. Руки до колен, спины перекорежены — всю жизнь гнутся в три погибели — глазенки обшаривают меня, Аннели, оценивают, прикидывают, как наброситься, куда впиться, как распотрошить половчей.
- Аннели!
- Никогда не будет, — повторяет она. — Почему?
Трое, четверо, пятеро... Индусы. Их суки каждый год таскают в подоле новых щенят, надо же им как-то кормить эту прожорливую свору. Снимут с меня коммуникатор — и чья-нибудь маленькая Европа целый месяц будет счастливо чавкать планктоном. А потом придется обобрать кого-нибудь еще.
- Вставай! Послушай... Медсестра сказала, можно показаться другому доктору. Какому-нибудь профессору...
- Эу, турист! Заплутал? — окликает меня ближайший из этих, с черной жидкой бороденкой завитой потными колечками. — Гид не нужен?
- Интересно, — отвечает мне Аннели. — Мальчик у меня был или девочка?
- Выдохни! — говорю я индусу. — Мы сейчас уйдем.
- Вряд ли, — другой, в зеленом тюрбане, по-обезьяни чешет промежность, перепрыгивает вперед.
Я скидываю с плеча рюкзак. Пятеро. Двоих точно успею, начать с ближайшего, нужен шокер...
И тут тот, что в тюрбане, плещет мне в глаза какой-то отравой. Жжет, как кислота, башку мне будто надвое раскраивают, рюкзак выдергивают из моих рук, а сам я падаю.
- С-суууууки! — вою я.
Поднимаюсь — тру глаза — слезы в три ручья — кислород перекрыт; меня ведет, черт разберет, где верх и где них; бросаюсь вслепую на голос, на их уханья и аханья — загребаю пустоту.
- А что у нас в портфельчике?
- Не смей! Отдай его, гнида!
Если они откроют мой рюкзак... Если они его откроют...
Помню тех повешенных; десятка Педро. Вздутые животы, синие набухшие гениталии: перед смертью наших раздели, оставили на них только маски Аполлона. На каждом маркером было написано «Я говорил вам, что я Бессмертный». Чтобы забрать трупы, трущобы штурмовал спецназ. Позор.
- Отвалите от него! — ее голос, Аннели!
- Аннели! Убирайся отсюда! Беги, слышишь?!
- Иди сюда, сладенькая... Мы тебя раскупорим... Твой теперь все равно в тебя долго попасть не сможет...
- Ого! Да тут...
- Аннели!!
- Ты глянь, что у него...
Меня просто повесят. А что сделает эта погань с ней, с моей Аннели? Я мечусь, растопырив пальцы, и в них случайно попадаются чьи-то волосы — влажные, курчавые. Сразу вцепляюсь в них, молочу чужим лицом о свое колено, хрусь! — вопль, но тут же меня швыряют наземь, и кто-то ботинком топчет мой лоб, скулы, я закрываюсь, как могу, ребра обожгло, слезы хлещут...
- Аннели?!!...
- Радж! Радж, вмешайся! — визжит какая-то баба.
Выстрел, выстрел, выстрел.
- Моаммад! Моаммада убили!
- Хинди тут! Хинди тут! Зови наших!
- Эй, блонд! Бежать можешь? — мужчина хватает меня за руку, поднимает с пола.
Мои кости — бамбук, я вешу сто килограммов, бамбук — пустая трава, кости не держат меня, но мне нужно стоять. Мне нужно бежать. Моргаю, киваю.
Мир мелькнул. Еще.
- Хватай его! — гаркает тот же голос. — Рвем отсюда!
Тонкие пальцы сквозь мои пальцы. Я узнаю Аннели наощупь.
- Мой рюкзак! У них мой рюкзак!
- Брось его, надо сматываться!
- Нет! Нет! Мой рюкзак!
- Ты не понимаешь! Ты, хинди, ты не понимаешь, кто...
Выстрел. Кто-то давится, кашляет, хрипит, выстрел.
- Вот! — мне в слепые глаза тычут тряпку моего рюкзака. — Валим! Там еще их...
Бегу в никуда за поводырем, ощупываю его — да, маска там, и плоский контейнер, и шокер. Я спасен! Переставляю ноги так скоро, как могу, Аннели ведет меня, и все время рядом голос женщины, которая кричала «Радж, вмешайся!», и сиплая матерщина того человека, который помог мне встать, который стрелял. А между их шагами слышу еще шажки — легкие, частые. Кто это? Кто они все?
- Добежим до травелатора — считай, выбрались! — обещает мужчина. — Пара блоков, дальше наша башня! На Дно они не сунутся!
Сзади — крики, хлопают самодельные пистолеты, это за нами.
Я спотыкаюсь, но не падаю — мне нельзя упасть, потому что если нас догонят, нас разорвут.
- Вон! Там наши! Сомнат! Сомнааат! Паки идут! Паки!
- Это они! Это Радж со своими... — слышу я впереди. — Это наши!
И навстречу нам стучат башмаки, и летит вопль из десятка, двух десятков глоток, и — я, слепой, чую это кожей — впереди бегущей к нам на подмогу толпы взрывной волной катит ярость.
- Сомна-ат! СОМНАААААТ!!!
Пролетают мимо нас невидимые бесы, обдают горячим воздухом и терпким потом, задевают плечами, оглушают боевым кличем — проносятся мимо. И потом — мы уже спрятаны, укрыты где-то — позади, за нашими спинами один человеческий вал находит на другой, и начинается драка — свирепая, первобытная, отчаянная, в которой кто-то наверняка будет сейчас убит.
Но не Аннели — и не я.
- Как твои глаза? Получше?
- Да. Я все вижу.
- Будешь есть? У нас рис с белком и карри.
- Спасибо, Соня.
Карри тут пропахло все. Все пять комнат этой старинной квартиры с высоченными потолками, растрескавшаяся лепнина, облезлые обои с тусклыми вензелями, которыми оклеены стены; весь воздух в добавок к обычной своей химической формуле состоит еще и из молекул карри, и в карри замаринованы все люди, которые набились в эту квартиру, не знаю, сто их тут или двести.
И еще: голограммы с изображением какого-то древнего храма или сказочного замка, налепленные везде, где только можно: темно-желтые стены, плоские купола, усеянные зубцами, толстая башня с округлой вершиной, и все словно вылеплено прямо из сырого морского песка — ведь море подле его стен. Над шапкой башни реет огромное треугольное знамя. Этот храм-замок повторен в тысяче реплик — ночью в свете софитов, пасмурным днем, когда море сделано из стали, утром в проникающих сквозь его песочный камень красных лучах раннего солнца — на старых почтовых карточках, на пожелтевших политических плакатах на неизвестном наречии, на фотографиях, на неловких детских рисунках, на кухонных магнитах и на трехмерных анимированных голограммах: треугольное знамя развевается на пойманном в кадр ветре.
Простор пятикомнатного жилища покромсан на ячейки: из арматуры, железных прутьев, сварены настоящие клетки, которые идут от пола до потолка. Каждая — пару метров в длину и полтора в высоту; клети не имеют дверей и не запираются, стены-решетки нужны только для того, чтобы разграничить место. Так каждый сантиметр этой квартиры используется — но при этом воздух у всех ее обитателей общий, и сквозь три яруса от пола виден потолок. Дети, ловкие как макаки, шныряют с веселым смехом вверх-вниз по решеткам, играют в салки, забираются в гости к своим приятелям и чужим людям, свешиваются головой вниз, зацепившись ногами за прутья. С верхних ярусов меня разглядывают любопытные девчоночьи глаза, внизу старухи кидают игральные кости, по ним скачет мелюзга; в одну из клетей втиснулась парочка и у всех на виду целуется под аккомпанемент детского хора, который восторженно дразнит ее дурацкими стишками, что-то про жениха и невесту. Все смуглые, темноглазые, черноволосые.
Электричества нет; под потемневшим потолком горят керосиновые коптелки, готовят тоже на открытом огне. На засаленной кухоньке стоят ведра с зацветшей водой и двухсотлитровая бочка керосина.
Я сижу в зале, за большим столом из белой пластмассы; посередине — скульптурка странного создания с человеческим телом и слоновьей головой.
Рядом — Аннели. По одну руку от нас — синеглазая Европа и ее мать, женщина по имени Соня, которая сказала, что у меня и Аннели родится красивый ребенок. По другую — крашеная блондинка, умопомрачительно красивая, хоть и по-блядски напомаженная; при своей боевой раскраске дохаживающая последние дни беременности; от стола она отодвинулась — живот слишком велик. И еще человек пятнадцать: седобородый старичина с черными бровями, его жена — морщинистая, крючконосая, с волосами, собранными в клубок, прямая и гордая; и еще люди всех возрастов от мала до велика, и все галдят, едят пригоршнями из чана с рисом, смеются и бранятся одновременно.
Каждый неуловимо похож чем-то на других. Меня это озадачивает, и сравниваю их, обмеряю втихомолку, ловлю общие черты — глаза, нос, уши — пока наконец не догадываюсь: да это же клан! Семья! Три, а то и четыре поколения живут вместе — как в каменный век, как пещерные люди. И квартира их, которую они черт знает каким образом захватили — не квартира, а самая что ни на есть пещера; только вместо наскальной живописи у них повсюду картинки этого храма. Дети, родители, деды — все вместе, все вповалку; дикари!
Кто-то трогает меня за руку.
Отдергиваю ее, как укушенный.
- Брось! Можешь расслабиться, тут ты в безопасности, брат! — улыбаются мне.
Это Радж. Тот, что застрелил из-за меня четверых обдолбанных павианов. Вытащил меня из петли. Тот, кому я никто. Крепкий, обритый наголо, борода заплетена в косичку, в подплечной кобуре — никелированная рукоять с черными щечками.
- Спасибо, — язык не хочет слушаться меня, но я его принуждаю. — Мне без тебя была бы хана.
- Паки оборзели, — он качает головой, уминая желтый пахучий рис. — Если бы я не встречал жену, — Радж кивает на Соню, — она тоже могла бы попасть...
- Как ты? — спрашивает Соня у Аннели, обнимая ее.
- Не знаю, — отвечает та.
- Мало ли, что сказал доктор? Один доктор говорит одно, другой — другое. Хочешь, мы найдем тебе хорошего профессора, пусть посмотрит тебя?
Аннели молчит.
- Эй, парень! Ешь давай! — кричит мне с другого конца стола старичина. — Что скажут люди? Девендра принимает гостей и не кормит их! Мы же не пакистанцы! Не позорь меня, ешь, прошу тебя!
Чтобы говорить, ему приходится каждые три слова останавливаться и набирать воздуху. Хрипу при это столько, будто в каждом легком у него пробито по дыре.
- Накладывай, не стесняйся! — подмигивает улыбчивый паренек в очках, явный зубрила и какой-нибудь будущий адвокат. — Как твое имя, друг?
- Я...
- Эжен! — отвечает за меня девочка Европа. — Его Эжен зовут!
Удобно: мне больше не надо лгать самому, теперь за меня лгут другие.
- Что по жизни делаешь, Эжен?
- Безработный.
Они ведь тут все безработные; я просто хочу быть таким же, как они.
- А я — порнобарон! — гордо поправляет тот свою оправу. — Это моя жена, Бимби, — он ударяет первый слог, гладя пальцы сидящей рядом красавицы с гигантским животом. — Вот, жду появления наследника!
Я загребаю рис грязными пальцами — как все они, из общего корыта — и сую себе в рот. Зерна склеены меж собой желтой пастой; лучше не думать, что у них тут за секретные ингредиенты. Белок — это ведь не яичный белок, откуда им тут взять денег на яйца...
Вкусно.
Запускаю руку в чан еще раз. Набиваю полный рот.
- Попробуй! — чавкаю я, глядя на Аннели — но она не слушается.
- Поешь, пожалуйста, — просит ее Соня. — Не обижай деда.
И Аннели мигает, очнувшись — и кладет рисовый комок себе в рот.
Мы ведь ничего не ели целый день, кроме этих треклятых кузнечиков и бутафорского яблока. Жую, не могу остановиться. Тут и травы, и что-то морское... Как они это... Черпаю снова.
- Вот! — трудно смеется седобородый старик. — Другое дело! Откуда вы, дети?
- Я местная, из Эщампле, — говорит Аннели. — Из ливанского квартала.
- Совсем рядом, — кашляет старый Девендра. — Тут, на Дне, а?
- Арабы нас не любят, — смурнеет Радж. — Они ведь за паков, так? Муслим за муслима горой стоит...
Там, в переходе, я принял пакистанцев за индусов. Те, что плеснули мне в глаза реагентом — вся эта свора — это были паки. Индусы — те, кто нас оттуда вытащил. Радж и его жена Соня, Европа и все остальные тут.
Ничего такого в том, что я их перепутал: с виду одних от других не отличить, но нет врагов более непримиримых. Индусы и пакистанцы воюют друг с другом уже третий век; обе страны давно обращены в пыль и пепел, но война не прекращается ни на минуту. Не стало государств и правительств, поголовно истреблены грозные армии, расплавлены города и сожжены заживо все их жители; теперь трудолюбивые китайцы постепенно подминают под себя радиоактивную пустыню, когда-то бывшую единой великой Индией. От двух многомиллиардных народов остались жалкие кучки беженцев, разбросанных по миру, которые вступают в остервенелую схватку, как только оказываются рядом. Это мы думаем, что Барселона — часть Европы; где-то тут, на улице, по рассохшимся тротуарам, по застрявшим травелаторам, по лестницам с яруса на ярус пролегает невидимая нам граница между сгинувшей Индией и призраком Пакистана.
Бред собачий.
- Она не похожа на арабку, Радж, — трогает его за руку Соня.
- Я не арабка, — поднимает глаза Аннели. — Моя мать там работает в миссии. Красный крест. Она врач.
- А ты откуда, говоришь? — старикан прикладывает ладонь к волосатому уху. — А, мальчик?
У Аннели есть мать.
Ее мать работает в Красном кресте. Лечит бесплатно нелегалов. Ее мать в нескольких кварталах отсюда. Она жива. Аннели была в интернате, но она знает, кто ее мать и где она живет. Ее мать не умерла. Тут ее дом.
Земля со скрежетом тормозит, надетая на несмазанную ось, останавливается, океаны выплескиваются из берегов, континенты собираются гармошкой, людишки летят кувырком. Меня знобит.
- Не ври! — лаю я. — Не смей!
- Я не вру, — спокойно отвечает Аннели.
- Эй, мальчик! Ты оглох? Соня, возьми у меня слуховой аппарат, подари мальчику...
- И ты не ври, — Аннели смотрит на меня.
- Я не отсюда! Я из Европы! Из настоящей Европы! — говорю так, чтобы он услышал это своими старыми волосатыми ушами.
- О как! И зачем ты полез в эту чертову дыру? — интересуется старик.
- Не мог оставить Аннели одну, — я выдерживаю ее взгляд.
- Жених и невеста! Жених и невеста! — поет тоненький голосок под столом.
- И что же она за врач, твоя мама? Давай, импровизируй! — клокочу я.
- Репродуктивная медицина.
- Какое совпадение! И почему же мы тогда не обратились к ней с нашей проблемой? Кому такое доверишь, как не мамуле?! — я не слышу себя, но весь стол уже пялится на нас.
И тут она бьет меня наотмашь — тыльной стороной ладони — по губам, по зубам. Сильно, остро, больно, так, что слезы брызжут из глаз.
- А ты своей такое доверил бы?! — произносит она тихо и яростно.
- Моя мать сдохла! Туда ей и дорога!
И вся комната затыкается, словно звуковой кабель им всем обрубили. Старый Девендра хмурится, Радж привстает, Соня встревоженно качает головой, дети под столом замирают, старухи на нарах перестают резаться в кости.
- Как ты можешь говорить так о своих родителях? — изумленно выдыхает Радж.
- Не твое дело, ясно?! — я тоже вскакиваю. — Она меня бросила подыхать!
- У тебя кровь идет, — Соня передает мне салфетку. — Приложи.
- Не надо, — я отталкиваю ее руку. — Нам пора.
- Ты у нас дома! — Радж ловит мое запястье; хватка у него стальная, голос треснувший. — Ты наш гость. Пожалуйста, веди себя достойно.
- Не хер...
Не хер было спасать меня. Не хер было приводить меня к себе домой. Не хер было кормить. Что, ждали, что я завиляю хвостом?!
- Эй, мальчик! — хрипит мне седобородый. — Погоди! Поди сюда! Да не злись ты так! Иди, у нас редко бывают гости! Расскажешь старику, как там ваша Европа... Видишь, мне скоро помирать, а я туда так и не попал!
- Дед! Хватит нести чушь! — кричит ему через стол Радж. — Как будто мы дадим тебе умереть!
Тот перхает глухим смехом.
- Сколько раз говорил тебе, малыш! Не хочу я жить вечно! Вот тошнота-то — вечность!
- Не слушай старого! — отмахивается от Девендры бабка, его жена. — Врет и кокетничает! Кто ж жить не хочет?!
Аннели разглядывает свою руку: на ней порезы от моих зубов.
Я поднимаюсь и подхожу к Девендре.
- Ну-ка брысь! — он гонит со стула хитрого пацаненка со свороченным набок носом.
Мальчишка сморкается непокорно, но старик отвешивает ему добродушный подзатыльник, и тот слетает со своего места.
- Садись.
Стул освободился композитный, грязно-белый; у самого Девендры не такой — древний, железный, при том никакой ценности не имеющий — весь ржавый насквозь, исцарапанный и колченогий, однако старый индус так сидит на нем, словно это трон. Он блестит мокрым — видно, Девендра облил его, пока наливал себе воды, и от него идет странный запах, знакомый мне откуда-то. Ржавчина, вспоминаю я. Так пахнет ржавчина.
- Цапаешься со своей подружкой, — дырявыми легкими смеется он. — Дело житейское. Приятно знать, что там, за прозрачной стеной, вы такие же люди, как и мы тут. Выпьешь со мной?
Под рукой у него — маленькая бутылочка хитрой формы. Не дожидаясь моего ответа, Девендра цедит из нее что-то мутное в пустой стакан, пододвигает мне, потом наливает себе.
- Ты-то куда, старый? Что тебе доктор говорит?! — ахает его носатая жена.
- То нельзя, это нельзя... Чего жить-то тогда? А эти мне еще предлагают вечно кряхтеть! — он кивает на Раджа, чокается со мной и одним махом опрокидывает полстакана своей бодяги. — Твое здоровье!
Несет ужасно. Но старик, утерев вишневые губы, смотрит на меня с такой насмешкой, что я набираю воздуху и выливаю эту дрянь в себя, прижигая разбитые губы.
Словно кипятка глотнул; слышу, как отрава стекает по моему пищеводу, как денатурируются белки и умирают живые клетки на ее пути.
- Семьдесят градусов! — гордо заявляет старик. — О де ви, живая вода!
- Самогон! — кричит Радж. — Живая вода у буржуев в Европе!
- Пусть сами и хлещут ее! — кричит ему в ответ Девендра. — Иди-ка сюда, внучок!
Радж подбирается к нам; на меня он, впрочем, не смотрит.
- Выпей-ка! — старик ему плещет полстакана. — Посмотри, на чем я сижу.
- На железном стуле, дед, — скучно, словно все это уже было слышано им сто раз, тянет Радж; стакан он держит в левой руке.
- Точно. А ты знаешь, — Девендра оборачивается ко мне, — почему я сижу на этом стуле, а? Он колченогий, он скрежещет, как моя жена своими зубами, он весь ржавый насквозь, сыплется, а я сижу на нем.
Я пожимаю плечами; живая вода мешается с моими соками, испаряется, и ее пьяными парами надувается моя голова.
Аннели с Соней, та гладит ее руки, Аннели кивает ей; уверен, что она чувствует на себе мой взгляд, но не хочет встретить его.
- Я не люблю композит! — объясняет старик. — Композит не ржавеет. Сто тысяч лет пройдет — а ваши стулья будут все такими же. Империи разрушатся, человечество вымрет, но посреди пустыни будет стоять сраный стул! — он качает головой по-особому, по-индийски — подбородок движется вправо и влево, а макушка остается на месте. — Давай еще выпьем.
- Остановись! — скрипит крючконосая старушенция.
Девендра только посылает жене воздушный поцелуй. Разливает нам с Раджем, последним наполняет свой стакан.
- Это для богов стулья, а не для человека, — рассуждает он. — Ваше здоровье!
Радж пьет — левой, но следит за дедом с беспокойством. А мне уже все равно.
- А мы не боги, мальчик! — старик довольно кряхтит и жмурится. — Что бы мы там ни химичили со своей требухой, это все жульничество. Вечные пластиковые стулья — это не для наших задниц. Нам нужны стулья, которые будут напоминать нам кое о чем... Ржавое железо — вот хороший матерьяльчик!
- Мы все равно достанем тебе их воды, дед! — упрямится Радж. — Разбавлю ей твое пойло, помолодеешь лет на десять, и тогда уж болтай себе сколько влезет о том, как хорошо помирать.
- Это тебе вечно жить надо! — смеется Девендра. — Ты молодой, а тебе все не хватает!
- Надо! Почему только буржуям можно? Это же несправедливо! Посмотри на него! — Радж толкает меня в бок; но не обидно. — Он, может, тебя старше два раза, а ты его все мальчиком зовешь!
- Он-то? Что я, мальчишку от старика не отличу? Нет, внучек, человек не снаружи стареет, а внутри! А я этого пацана вижу насквозь! — Девендра ерошит мне волосы.
У обычного меня от такого шерсть бы на загривке дыбом встала, но индийская отрава распарила мои мозги, разжижила мою кровь. Не могу злиться.
- Давай спорить! — азартно кричит Радж. — Тебе сколько лет, друг?
- Я не мальчишка, — говорю я.
- Сколько? Двадцать три? Двадцать шесть? — перебирает старик.
- Двадцать девять.
- Двадцать девять! Пацан! — смеется Девендра.
- Друг! А ты правда оттуда? Из большой Европы? — спрашивает меня кто-то.
К нам поближе перетащил стул для своей беременной жены студент-очкарик. Она сидит, обмахивается ресницами с бабочкино крыло размером, кокетливая, словно и нет при ней ее обузы.
- Правда, — нетвердо говорю я.
- Вообще круто! — потирает руки студент. — Слушай, есть дело! Мне нужен партнер там, у вас!
- Наркотики через границу возить? — шучу я.
- Не, наркотой у нас Радж занимается! Космические кристаллы выращивает. Я кино снимаю. Он про бизнес, я про искусство.
- Я вообще-то хочу на контрабанду воды перейти! — оправдывается зачем-то Радж. — Но там все арабы держат, а они за паков горой, нас не пустят... Купить даже не дают.
- Не перебивай, брат! — студент толкает его в плечо. — Короче. У вас же там в Европе у мужиков не стоит ни у кого, так? Ну, в плане ли-би-до?
- Почему это? — обижаюсь я.
- От хорошей жизни, наверное! Все, что мы тут снимаем, все к вам уходит! Короче, перспективы обалденные! Будем знакомы!
Он лезет во внутренний карман клубного пиджака — на ногах у него тренировочные штаны — и извлекает оттуда визитную карточку. Физическую, отпечатанную на бумаге — и вручает мне ее с гордостью. Бумага тонкая, дрянная, но буквы позолочены. «Хему Тирак» значится на ней. «Порнобарон». Я уважительно убираю визитку в нагрудный карман.
- Дедуль, налей мне тоже! — просит Хему, порнобарон-отличник.
- Жена твоя не против? — подначивает Девендра. — А то моя вся изведется, пока я до кондиции дойду!
- Да потому что у тебя от всей поджелудочной одна четверть осталась, а ты и ее хочешь проспиртовать! — не выдерживает старуха.
- Цыц! — Девендра сводит вместе свои кустистые брови. — На то я и хозяин дома!
- У меня, например, все в порядке, — настаиваю я; в моей голове шумит теплое море.
- Вот еще одно доказательство — он пацан! — вмешивается в нашу беседу старый Девендра.
- Ну молодец, что тут можно сказать? — очкарик хлопает меня по плечу. — Так держать! Но! Но почему-то все хотят на наших глядеть. Может, потому что знают: у нас если телочка на семнадцать выглядит, то ей семнадцать и есть. А может, потому что у нас это с огоньком делают, как в последний раз...
Аннели отвернулась от меня, сгорбилась, занята чем-то. Мне хочется подойти к ней. Погладить по спине. Взять за руку. За что я на нее наорал?
- У нашего дяди Ганеша была опухоль, — говорит Радж. — Рак поджелудочной.
- Этой брат мой, — поясняет Девендра. — Хороший был человек. С кишками у нас у всех не в порядке.
- Два года умирал, — продолжает Радж. — Ему было семьдесят. Доктора сказали, два месяца, а он два года тянул. И каждую ночь требовал, чтобы жена спала с ним. Тетя Аайюши. Его ровесница, между прочим. Спала, ты понимаешь? Такой силищи был человек. Тетя говорила, ей страшно каждый раз: вдруг, мол, он прямо на мне преставится? Но отказать не могла.
- Не могла? Не хотела! — громыхает Девендра. — Вот такой был мужик! — он показывает мне большой палец.
- Вот и брал бы с него пример! — тычет узловатым пальцем деду в нос его седая жена.
- Вот и беру! — старикан опрокидывает еще стакан.
- В общем, у нас это в крови, — Хему-очкарик протягивает ему чайную чашку. — Я про страсть.
- Немудрено с такой-то красавицей! — Девендра толкает старуху локтем в бок, кивает на беременную блондинку. — Ты у меня, правда, тоже ничего была...
- Я-то от воды их не отказывалась бы! — кивает старуха.
- Мы и тебе достанем, баба Чахна! — заверяет ее Радж.
- Хочу выпить за то, Хему, чтобы твоя Бимби родила тебе крепкого бутуза! — улыбается Девендра.
- Я тоже за это выпью! — подставляет стакан Радж. — За твоего сына, брат! И за тебя, Бимби! Нам нужны пацаны. Нашей семье, нашему народу...
Все пьют за напомаженную Бимби; та хихикает осторожно, чтобы случайно не родить.
- Пойду-ка я продышусь! — Девендра встает со своего дряхлого стула. — Эй, старая, пойдешь на улицу?
- Так вот, друг! К нашему бизнесу! — дергает меня за рукав Хему. — Все говорят, что ваши там одурели уже от виртуальных партнеров и от симуляции... Но! У меня шикарная идея. Вербуем тут взвод юных дев, сажаем их перед камерами... Сечешь?
- Погоди! Сейчас я...
Я отмахиваюсь от него, поднимаюсь на своих травяных ногах, бреду к Аннели. Надо объяснить ей, почему я это сказал. Перед глазами — она, обнаженная, безумная, на яркой и нежной траве... И потом в этом чертовом кабинете, когда ей сказали...
- Послушай... — я дотрагиваюсь до ее плеча. — Послушай! Ты меня извини, я...
Она вздрагивает, будто я ее уколол. Раскрывается. В руках у нее чей-то коммуникатор.
- Взяла у Сони. Я позвонила ему. Вольфу.
- Что?..
- Он не отвечает. Я пять раз звонила, но он не отвечает. Я написала ему, дала адрес.
- Зачем?!
- Пусть он знает, где я. Пусть заберет меня. Бессмертные нас тут не достанут.
- Но если...
- Я больше не хочу ждать, — говорит Аннели. — Мне нужно, чтобы он забрал меня. Понимаешь?..
- Понимаю.
- Прости, что ударила тебя. У тебя все еще кровь идет.
Я утираю рот. На моих руках красное.
- Не страшно, — улыбаюсь ей я. — Я продезинфицировал.
Вкус самогона проходит, вкус крови остается. Я проглатываю вязкую слюну. Выдыхаю через нос.
Моя кровь пахнет ржавым железом.

Мы сидим на балконе, я и Аннели.
Под нами Рамблас, запруженные народом бульвары старой Барселоны, живая река. Миллион огоньков течет по дну мира. Солнце сюда не проникает: грязный потолок ангара обрезает старые дома по шестой этаж, и уличные фонари не работают; но все освещают себе дорогу сами — коммуникатором, карманным диодом, чем попало.
- Красиво. Как будто у каждого душу видно, — сдавленным голосом шепчет Аннели и протягивает мне самокрутку. — Будешь?
- Душ не бывает! — я затягиваюсь ее дурманом, кашляю.
- Не говори за всех.
Внизу в огромных котлах варят мясо, на жаровнях дымят орехи и какие-то клубни, очереди бесконечные, смех и болтовня, угар и многосложный аромат еды со всех концов света. Мы просто сидим и ждем, пока за ней прискачет ее рыцарь на белом коне, посадит ее впереди себя, обнимет нежно и властно и умчит ее вдаль. Ожидание мучительное; чтобы промотать время вперед, мы используем волшебную траву Раджа.
- Единственное, что реально стоило генетически модифицировать, — выпуская клуб дыма, хвалит ее Аннели.
Она ждет своего гребаного спасителя, а я оттягиваю тот момент, когда мне придется отпустить ее навсегда. Я почти начал забывать, что держу ее на коротком поводке и почти начал верить, что мы просто вместе. Но у нее память куда лучше моей.
- Эжен?
Вряд ли Рокамора придет за Аннели один; наверняка заподозрит ловушку и явится с охраной. Ребята с лоскутными лицами сдерут с меня мою масочку добряка вместе с кожей и отдадут меня толпе. Так что мне бы лучше надо сейчас встать, выйти по нужде и пропасть из жизни Аннели. Но я торчу с ней на этом балконе и курю чужую траву. Просто не могу встать. Хочу насмотреться на нее на память.
- Эжен!
Она зовет меня. Это мое имя. Я сам его себе придумал, так что надо отвечать.
- Что, прости?
- А ты как сбежал? — спрашивает Аннели. — Из интерната?
- Через окно. Там было окно, я отнял у доктора ствол и проплавил в нем дыру.
Эжен сбежал из интерната и стал активистом Партии Жизни. В его судьбе много общего с судьбой Аннели. Они могли бы стать друзьями или даже...
Мне уже пора исчезать, а я все продолжаю врать Аннели.
Мне ничего от нее не получить, я нужен ей только для того, чтобы скоротать время, чтобы сберечь ее, пока ее настоящий мужчина не придет и, почесывая свое хозяйство, не заявит лениво на нее свои законные права. Я продолжаю ей врать, потому что правда окончит все тут же.
Кто придумал, что правду легко говорить? Вот уже ложь.
А от вранья единственная неловкость — оно требует хорошей памяти. Врать — как выстраивать карточный домик: каждую следующую карту надо класть все осторожней, глазу не спускать с ненадежной конструкции, на которую собираешься опираться. Малейшей детали из ранее нагроможденной лжи не учтешь — рухнет все. И уж есть такая особенность у вранья: одной картой дело никогда не обходится.
Правда не дала бы нам быть вместе ни секунды.
А на ложь я купил ей жизнь, а себе — романтическую поездку.
К чему мне быть Яном? Яну нельзя встречаться с женщиной больше одного раза. Ян давал обет безбрачия, и за нарушение этого обета Яна ждет трибунал. Ян командовал бригадой насильников. Ян разлучил Аннели с ее возлюбленным.
Мое настоящее имя короче; оно было удобно, если бы Аннели приходилось произносить его по сто раз на дню на протяжение вечности — если бы я мог с ней жить. А для одноразовой любви хорошо использовать одноразовое имя и презервативы. Так гигиеничней.
Хотя Рокаморе превосходно удавалось жить с ней и врать ей повседневно; вот талант. С Аннели, в общем, жил не он сам, а какая-то из его конспиративных легенд. И ее все устраивало...
- А ты? Как ты сбежала?
Аннели затягивается поглубже. Передает самокрутку мне. Вместо ответа:
- Ты их сразу начал искать?
- Кого?.. — я не понимаю.
- Своих родителей. Ты ведь знаешь, что они умерли. Значит, ты их искал.
Я набираю полную грудь дыма; обычный воздух не вынет из моих связок нужных слов. Дым легче воздуха. Дым поднимает меня над землей.
- Отца не было. Только мать. Она была со мной, когда Бессмертные пришли. Ей вкололи акс.
- Ты сам видел?
Видел ли я это? Я уверен, что так было, потому что сам тысячу раз проделывал это с другими женщинами и их детьми. Эжен этого не знает, но я не могу быть Эженом всегда.
- Нет.
- А я не хотела ее искать, — говорит Аннели. — Мою маму. Зачем? Разве чтобы в лицо ей плюнуть. Я-то точно знала, что с ней все в порядке. Потому что папа сказал, чтобы кололи ему. Отлично все помню. Я сидела у мамы на руках, он заслонил нас собой, закатал рукав. Когда ему сделали укол, плюнул им под ноги. Папа был очень спокойный. Он не знал, что меня у него все равно отберут. А мать все это время визжала, как резаная, хотя ее-то никто не трогал. Прямо мне в уши визжала.
- Ну а моя не знала даже, кто меня заделал, поэтому стрелки было не на кого перевести. Так что вкололи ей, без вариантов.
Я не смогу быть Эженом всегда.
- Ты не пробовал в базе ДНК посмотреть?
Мотаю головой.
Даже после выпуска нам запрещено выискивать своих родственников — запрещено кодексом Бессмертных. Но даже если бы за это и не преследовали, в базу я все равно не полез бы.
- Плевать я хотел, кто там кончил в мою мамашу.
- А я все ждала его звонка, знаешь? Звонка, ну. В интернат.
- Знаю. И... Он не позвонил?
- Позвонил. Когда мне было четырнадцать. Он был весь седой, в каталке сидел. Я ему сказала, что люблю его, и что мы обязательно увидимся еще раз, что я к нему вернусь, и вылечу его, и что мы будем жить вместе, как семья. Я это успела все за десять секунд сказать, а потом меня отрубили.
- Ты... Ты не прошла проверку?
- Что ты так вытаращился? Вертела я их проверки!
- Тебя же должны были...
- Я не стала выяснять. Сбежала. Когда отца увидела, поняла, что не смогу там сидеть и ждать, пока он умрет. Что мне этих десяти секунд с ним недостаточно. Готовилась долго... А решилась только после его звонка. Когда терять уже было нечего.
Она глядит на меня с усмешкой, высасывает из окурка последнее, обжигает себе пальцы — морщится, но тянет.
- А как ты свалила оттуда? — хочу выковырнуть из нее правду.
- Повезло, — и все; напрасно я жду продолжения.
- А... И что отец? Застала его? — мне почему-то трудно спросить ее об этом.
- Нет. Зато мама была в отличной форме.
- Как ты отыскала ее? Говорила с ней?..
- В два хода. Сдала кровь на генные маркеры, потом пробила ее по базе.
Аннели наконец выпускает уголек; растирает пепел.
- У отца инфаркт случился. После нашего разговора. Так что я зря бежала.
Киваю; представляю себя на ее месте.
- А что мать?
- С ней все отлично, спасибо. Она сейчас выглядит так же, как в тот день, когда меня у нее забрали. Ни на минуту не постарела. Моложе меня.
- Что ты ей сказала? Как это было? Она... удивилась?
Аннели плюет с балкона вниз людям на головы. Кто-то внизу хватается за лысину, проклинает индийскую шпану. Аннели смеется.
- Она сказала, что случившееся стало для нее поворотным моментом. Так и сказала: поворотным моментом. Мол, потеряв меня, она решила посвятить свою жизнь тому, чтобы помогать другим людям заводить детей. Что так она борется с бесчеловечной системой, которая отняла у нее ребенка и мужа. Что она работает бесплатно, и что в этом году пятьсот женщин смогли забеременеть и родить благодаря ее помощи. Что она рада меня видеть, но не уверена, что я поступила правильно, сбежав из интерната.
Я тоже хочу многое рассказать тебе, Аннели. Рассказать о том, какой лицемерной сукой и какой набожной прошмандовкой была моя мать. Каким безмозглым и бессердечным кобелем был мой отец. Как они запихнули меня в интернат; как никогда не пытались меня найти. Почему я должен их искать?! Неужели мне это должно быть нужнее, чем им?! Я хочу рассказать об этом тебе, Аннели, потому что я устал плакаться об этом проституткам.
В самом конце бульвара в гуще электронных светлячков, душ наизнанку, вспыхивают оранжевые факелы, поднимаются над толпой — один, два, десять. Я хватаюсь за него, чтобы голова не кружилась.
- Там какое-то шествие...
- Пятьсот женщин за год. Полтора ребенка в день, как она говорит. Вот кто хороший специалист, — отвечает Аннели. — Моя мама. Ты прав. Надо было сразу идти к ней.
- Слушай... Я ведь не знал...
- А с отцом она развелась. Лет через пять после укола. Он сказал ей, что не хочет быть ей обузой. И она не стала возражать. Это был его выбор, так она мне объяснила. Он ведь взрослый человек!
- Сколько народу там... Знамена какие-то... Парад, наверное? — докладываю я тупо; а что еще остается?
- А я ей говорю: это ты должна была сдохнуть, ма. Ты, а не папа. Все эти чужие дети в чужих бабах, все это твое отважное изучение чьих-то влагалищ — это все никакого отношения ко мне не имеет. И к папе тоже. Можешь копаться там дальше, ма, но лучше бы тогда ты закатала рукав, а не папа, а я бы сегодня пришла к нему, а не к тебе.
Аннели проговаривает все это очень просто, будто в тысячный раз; будто у нее совсем не саднит горло от этих острых, угловатых слов.
А у меня нутро тянет: я завидую ей, мне тоже нужно облегчиться, нужно сорвать коросту и выдавить гной. Мне тесно в Эжене, я хочу побыть с Аннели самим собой — хотя бы напоследок. Но в мое горло такие слова не проходят.
- Я... На самом деле я так и не... Я не...
- Ладно. Ты извини, что я это вывалила на тебя, — она поднимается. — Я пойду к Соне, проверю, вдруг Вольф ответил.
Так что я могу оставить свои откровения при себе.
Она протискивается мимо выставленного на балкон платяного шкафа, чуть прижимаясь ко мне бедрами, подзаводя мое сердце, и девается внутрь дома. Факельное шествие приближается; реют над головами зеленые знамена. Какой-то местный праздник, наверное.
Я думаю об Аннели. О том, что она не прошла проверку. О том, как ей удалось после этого вырваться из интерната. О том, что она разыскала свою мать. Как решилась вообще на это. Как нашла слова. Как ухитрилась остаться на свободе. Хочу понять, почему она стала всем тем, чем я не стал.
Я могу притворяться Эженом сколько влезет, и она не спорит со мной: просто тоскует по своему Вольфу, вот и все. Просто обманывает меня, при первой возможности вызывая его к себе. Я не замена Рокаморе, я ему не соперник — Аннели видит подделку, слышит, что я полый внутри.
Вот если бы я был Девятьсот Шестым... Все было бы иначе. Она поверила бы в меня и забыла о Рокаморе. Базиль ей бы наверняка понравился. Может быть, Аннели его полюбила бы.
Любила же Базиля какая-то женщина, а он любил ее.
И поплатился.
- Смерть! Смерть! Смерть! — раздается внизу; чей-то гнусавый голос, умноженный мегафоном.
- Смерть! Смерть! Смерть! — отзывается толпа.
Сотня пылающих факелов прямо подо мной.
- Смерть хинди! — орет мегафон.
- СМЕРТЬ ХИНДИ! — ревет толпа; и наконец я понимаю.
- Эй! — я заскакиваю внутрь, зову хозяев. — Там эти черти пришли... Паки! Тьма народу, с факелами!
Радж — никелированный гангстерский ствол в левой руке — осторожно выглядывает с балкона. Зарево от факелов уже бьется в окна, от воя толпы стекла дрожат.
- Звони нашим! Их там сотня целая! Баррикадируй вход! — кричит Радж своим. — Хему, Фалак, Тамаль! С пушками на балконы! Тапендра! Уводи стариков! Где дед?
- Вышел... — блеет тщедушный длинноволосый Тапендра. — На улице он...
- Эй! Собаки паршивые! — каркает под домом громкоговоритель. — Нам нужен тот, что загасил четверых наших в третьей золотой башне! Бритый, с бородой! Давайте его сюда, или мы весь дом сожжем к шайтану!
- СМЕРТЬ ХИНДИ! СМЕРТЬ! СМЕРТЬ! СМЕРТЬ!
Они пришли за Раджем. Там, в переходе, в моей темноте, в схватке бесов, ничего не разрешилось и ничего не закончилось. Он ввязался из-за меня, из-за Аннели, и теперь паки хотят его голову.
- А мне что делать? — спрашиваю я у Раджа.
- Бери свою девчонку и беги. На чердаке есть черный ход...
- Нет, — говорю я.
- Вы тут ни при чем. Это между нами и паками, так что давай! — и он забывает про меня. — Дед точно на улице? Фалак, выгляни...
Я тут ни при чем. Черные муравьи грызутся с красными муравьями. Их насекомые войны начались тысячу лет назад и будут продолжаться еще тысячу, и человеку в них лезть незачем. Если бы Радж не застрелил из-за Аннели тех павианов в переходе, он отыскал бы повод, чтобы убить других четверых неделей позже. Мы можем уходить с чистой совестью.
Аннели держит за руку маленькую Европу — Соня захлопывает оконные ставни, запирает их на засовы. Мы скрещиваемся взглядами.
- Радж прав. Нам надо убираться отсюда.
Европа вцепляется в ее руку так, что пальцы белеют — но не плачет. Аннели гладит ее по голове.
- А вот кто попался! Смотри-ка! — звенит с улицы.
- Он у них. Девендра у них! — толстый усатый Фалак загоняет патроны в магазин карабина.
- Аннели?..
- Бросайте этого пса из окна! Или мы сейчас старику башку отпилим! — зашкаливает мегафон.
- Дед! — Радж показывается на балкон. — Дед, не дрейфь! Мы сейчас...
На улице громыхает выстрел, с потолка сыплется штукатурка, Радж еле успевает пригнуться.
- Валяйте, пилите, шакалье! — сипло кричит на улице Девендра, заходясь кашлем. — Ноль цена моей башке! Так и так скоро подыхать! Испугали!
- СМЕРТЬ ХИНДИ! СМЕРТЬ! СМЕРТЬ! СМЕРТЬ!
- Не трожь его, слышишь?! — выглядывает Радж; тут же новый выстрел.
- Раз у этой гнилой башки цены нет, мы потом к вам поднимемся! — визжит кто-то в толпе. — Давно пора осиное гнездо сжечь!
- На кухне бочка с керосином, — шепчет Хему. — Если они будут штурмовать... Вытащить на балкон и вылить на них...
- Там дед! Идиот! Мы должны деда вытащить! — лает на него Радж.
- Как?!
- Дождаться наших! Тамаль, ты звонил Тапендре? Что он сказал?
- Говорит, им нужно минут двадцать, чтобы собрать всех...
- На колени его! Али, держи пилу! — вопят снаружи. — Они не верят нам!
- Нет! Нет! Я иду! Я спускаюсь! — Радж отбрасывает Соню, распахивает дверь. — Отпустите его, я иду к вам!
Это все муравьиные сражения, говорю я себе. Не твое дело, что станет со стариком, с этим бородатым парнем, с их пузатыми женами, детьми и голозадыми внуками. Ты тут чужой, ты тут случайно. Ты вообще не должен был оказаться в Барселоне. Уходи и забери ее с собой. Уходи.
Какая-то фурия с серыми распущенными волосами подставляет чужому младенцу выдохшуюся грудь, чтобы он не плакал. Пятилетний мальчишка со свороченным носом машет кулаками, обещая врезать этим пакам как следует, его отец зажимает ему рот.
- Мы не можем уйти, — говорит мне Аннели.
- Не вздумай выходить к ним, идиот! — орет Девендра. — Не открывайте им! Они тебя вздернут! Вас всех! Не открывайте!
Но Радж уже летит вниз по лестнице.
- Шакалы! — яростно хрипит на улице старик. — Вы все будете гореть в аду! Все! Настанет день! Вы три раза рушили священный храм Сомнат, но он стоит! В моем сердце! В наших сердцах! И будет стоять всегда! Пока живы мои дети! Мои внуки!
- СМЕРТЬ! СМЕРТЬ! СМЕРТЬ! СМЕРТЬ! — скандирует толпа.
- Псина грязная! Кончай его! Кончай эту суку шелудивую! — взвывает кто-то истерически.
Зачем он? Зачем? Его же убьют, его же сейчас убьют, зачем он их бесит? Насос накачивает мою чудесную новую композитную голову ржавой кровью, а стоки засорены, и она не уходит вниз. Чувствую, под у меня черепом нет больше места, он переполнен, его ломит изнутри. Сейчас она хлынет из моих глаз, из ушей...
- Мы вернемся туда и отстроим его заново! А вы все передохнете на чужбине! Вы не народ, вы отребье, крысы, звери! Мы вернемся в великую Индию, а вашей клятой страны не будет больше никогда!
- Дед! Не надо, дед! — кричит ему Хему, но все зря.
Пули крошат потолок, клюют запертые ставни, звенит разбитое стекло. Почувствовав идущую беду, принимаются верещать младенцы.
- Не можем, — я беру Аннели за руку. — Мы не можем.
- Там пепел! Сажа! Там даже костей ваших отцов не осталось! Нет больше Пакистана! Никогда не должно было быть и никогда не будет! А великий Сомнат будет стоять там, где всегда стоял! Всегда! — надрывается старый Девендра.
- Убей его! Чего ждешь! Дай мне! Пили! Убей эту мразь! — ревут сто глоток.
Как во сне, выползаю на балкон. Старика поставили на колени, трое держат его, голову прижимают, седые волосы убрали с желтой морщинистой шеи, один, замотанный по глаза черным шарфом, приноровился уже резать Девендре шею зубастой ножовкой.
- Если вы сейчас же не... — вопит в мегафон какой-то тюрбан.
- Все будете гореть! Все!!! — страшным голосом, хрипло и исступленно, вещает Девендра, пытаясь поднять придавленную голову.
- СМЕЕЕЕЕРТЬ ИИИИМ! СМЕЕЕЕЕЕРТЬ!!!
- Не надо! Я открываю! — доносится со дна лестничной клетки.
- Псина! Псина! Смерть псам!!! — визжит палач в шарфе, набирает полную пятерню сухих и продергивает ножовку, разом погружая зубцы в сухую стариковскую шею.
Я отворачиваюсь, ползу назад.
- Сомнат! Сомна-а-а-а-а-а... — сипит бедный старик, кашляет, булькает. — А-а-а-а-а...
- Сомнаааат! — кричат дети, женщины, старухи в нашей квартире.
- Сомнааааат!!! — отзываются соседи.
- Его убили! Убили! Не открывайте двери! Не открывайте двери! Они его убили! — мои слова раскатываются по дому.
- Вот! Ловите!
Что-то круглое и тяжелое летит, кувыркаясь, по воздуху; метят в балкон, но промахиваются, и седобородая голова падает обратно в толпу.
- Дед! Дед! — рыдает толстый Фалак. — Бляди!
- Ломайте двери! — велит мегафон.
- Мама, я хочу писать... — вдруг слышу я чей-то тонкий голос совсем рядом.
- Потерпи... — шепчет женщина.
- Ну пожа-йста! — детский шепот.
Отдирают композитные листы от заколоченных окон первого этажа. Сколько нам всем осталось?
- Эй... — бледный Хему хватает меня за ворот. — Бочка... Пошли... Мне одному не дотащить...
Этот старик.
Их рис. Их самогон. Их трава.
Они меня приняли вместе с моим рюкзаком, они даже не спросили, что там у меня.
Ржавый стул.
Сколько тебе лет, мальчик?
Аннели, гладящая по голове зеленоглазую Европу.
Все вместе.
Через красный туман и барабанный бой я иду за ним на кухню; бочка там — пластиковая, белая, налитая до середины. Литров сто в ней. Хему берется за ручку с одной стороны, я с другой, тащим ее в комнату, по пути к нам присоединяется длинноволосый Тамаль, подхватывает ее под днище. Слышно, как ухают внизу бутсы по забаррикадированной входной двери, которую Радж так и не успел открыть.
Раздираем в стороны балконные ставни, выламываем створы. В балкон бьют пули. Чик, чик, чик. Хему снимает крышку с бочки, оглядывается на меня.
- Если они попадут в бочку, нам хана. Поэтому быстро.
- Быстро, — киваю я.
- Раз... Два...
На три мы выкатываемся на балкон; внизу их уже не сто — двести. Десятки огненных шаров над черными головами. Дырки стволов. Искры выстрелов. Грохот, вопли. Тамаль садится на пол, отпускает бочку, весь ее вес обваливается на нас с Хему. Сзади подлетает кто-то другой, поднимает днище...
- Взяли! Ииии ррр-ррааз!
И прозрачно-радужная вода хлещет вниз.
- Кидай ее! Кидай!
Сто раззявленных ртов.
- БЕГИИИИ!!!
Поздно.
Льется на них керосин, дьяволова вода, Девендрино проклятие. Орошает толпу. Мочит им волосы. Заливает глаза. Трогает пламя факелов, которые они принесли с собой, чтобы сжечь наши дома. И там, где была тьма, становится свет.
Облако на земле — оранжевое и черное. Вопль такой, что земля от него трескается. Дым черный. Гром гремит. С низким гулом расплескивается огненное озеро, и тонут в нем те, кто пришел к нам, чтобы убить нас, наших стариков и наших детей. Горят заживо, превращаются в смолу.
В этом всегда темном подвале, на замурованных Рамблас, впервые за двести лет становится светло, как днем. Как в аду.
Страшно и прекрасно.
Правильно.
Вот, Девендра. Теперь тебе не одиноко.
Потом все бульвары, весь ангар, сколько в нем ни есть кубометров, заполняет визг и рев, звук одновременно предельно высокий и предельно низкий, истошный и нечеловеческий. Вид с балкона: черные чучела, обернутые в пламя, мечутся, хватаются за свои горящие волосы, верещат, сталкиваются, падают, катаются по земле, корчатся и никак не могут успокоиться.
- Цирк! Цирк!!!
Мой голос. Мой хохот. Дышу сажей, жирным пеплом, их воплями.
Меня рвет.
Меня оттаскивают оттуда, оставляют на полу перхать, хохотать и отрыгивать. Аннели склоняется надо мной, гладит мое лицо.
- Все хорошо, — говорит мне Аннели. — Все хорошо.
Все хорошо. Все хорошо.
Втыкаю в уши свои грязные пальцы, давлю, что есть мочи. Заткнитесь вы, там, внизу! Но ушные отверстия — не только вход, они ведь и выход... Все эти голоса, я же запер их внутри моей головы...
Я несу огонь за собой. Люди горят там, куда я прихожу.
Это меня ты звал, Девендра. Ты звал меня, и я тебя услышал.
Кричу, рву глотку, чтобы заглушить их.
Проходит еще несколько минут, прежде чем на улице наконец становится тихо. Потом перестает гудеть и эхо внутри моего черепа.
Кого можно было спасти, паки утащили. Остальные лежат внизу, догорая. Все кончено. В окна просятся едкие смоляные клубы. Может, ты права, Аннели. Может, тут, на дне у людей и есть души. Вот же они, хотят в небо — но только пачкают потолок.
Из комнаты, набитой клетками, раздается протяжный низкий стон. Я переворачиваюсь на живот, подбираю под себя ноги и встаю — надо драться дальше: кого-то ранили, кто-то еще умирает.
Где мой рюкзак? Где мой шокер? Или дайте мне пистолет, я умею пользоваться оружием...
- Где паки? Где?! — я тормошу Хему, заглядываю в его запотевшие стекляшки. - Кого ранило?!
- Это моя жена! Это Бимби! — он вырывается. — Она рожает!
Аннели моргает. Разгибается — и робкими шажками идет на крики, будто это ее зовут. А я следую за Аннели, как на привязи.
Бимби забилась в дальний угол, ноги уперты, спина дугой, срам прикрыт грязной простыней, натянутой на растопыренные колени, и какая-то бабка, какая-то тетка заглядывает ей туда, будто играет в шалашик с ребенком.
- Ну давай! Давай, дочка! — подначивает повитуха мокрую от ужаса и старания Бимби — крашеные волосы слиплись, макияж размыт слезами и потом.
Аннели останавливается прямо над ней, заговоренная.
- Воды! Воды дай! Кипяченой! — орет на нее повитуха.
И Аннели идет за водой.
- Головка пошла! — объявляет бабка. — Где вода?!
- Головка пошла! — хлопает меня по плечу Хему. — Слушай, друг... Я сейчас, кажется, блевану от волнения... Почему столько крови? — вдруг замечает он. — Почему там столько крови?!
- А ты не трепал бы языком, а воды дал! Ну! Давай, девочка! Давай! — огрызается на него повитуха.
Бимби кричит, бабка пропадает в шалашике с головой, Аннели тащит чайник, какая-то фурия с распущенными седыми волосами подает чистые простыни, Хему квохчет про кровь, у меня за спиной стоит Радж, весь сделанный из сажи, и в его погасших глазах снова загорается огонек — другой, живой.
- Вона! Вона какой! — повитуха вынимает из лона костлявую морщинистую куколку в оболочке из крови, в обертке из прозрачной слизи, шлепает ее по красной заднице, и куколка начинает тонко пищать. — Богатырь!
- Кто? Мальчик? — спрашивает Хему неверяще.
- Пацан! — шмыгает кривым носом бабка.
- Я его... Хочу назвать его... Пусть будет Девендра! — говорит Хему. — Девендра!
- Пусть будет Девендра, — соглашается Радж.
Его глаза блестят так, словно на них утробная слизь; а может, это маленький Девендра родился в слезах Раджа и Хему, в слезах своего прадеда.
- Держи-ка... — повитуха передает корчащегося младенца Аннели. — Надо пуповину перерезать...
Аннели шатает, она не знает, как взять ребенка половчее.
- Я боюсь! — мотает головой Хему. — Я уроню! Или голова отвалится!
И тогда я его беру. Я умею их держать.
Он тужит свою пищалку, слепой котенок, весь перемазанный черт знает в чем; его голова меньше моего кулака. Девендра.
- А ведь он правда похож на деда, — всхлипывает Хему. — Похож, а, Радж?
Потом у меня забирают его, моют, вручают изможденной матери, Хему целует Бимби в макушку, осторожно притрагивается в первый раз к сыну...
Вот так они плодятся, говорю я себе. У тебя под носом.
Ненавидишь их? Жалеешь, что не можешь достать из своего рюкзака сканер, проверить тут всех этих теток, девок, мелюзгу, бородатых бандитов? Что не можешь раздать им всем смерть из шприца?
Отчего-то вместо ненависти я чувствую зависть. Я завидую тебе, маленький Девендра: родители не отдадут тебя в интернат. А если за тобой придут Бессмертные, эти бородатые мужчины будут отстреливаться из окон и лить им на головы горящий керосин. Правда, ты и не сможешь жить бесконечно, маленький Девендра, но ты еще не скоро это поймешь.
И вот еще что: для меня один сегодняшний день длился дольше всей взрослой жизни. Так что, может, тебе и не понадобится наше бессмертие, Девендра.
Я обнимаю Аннели. Она вся сжимается у меня в объятиях — но не хочет освободиться.
- Ты видел, какой он крошечный? — выдыхает она. — До чего он крошечный...
И только потом приходит подмога — запоздалая. Окружают дом, поднимаются в квартиру, соболезнуют, поздравляют. Женщины накрывают на стол, суровые дядьки в чалмах наполняют комнаты, курят на лестнице, обнимают ошалевшую немую Чахну, у которой два часа назад еще был муж. Теперь он там, внизу, сплавился вместе со своими врагами, не отклеить.
- Посмотри-ка! Он уже глазки открыл! Разве такое бывает, а, Джанаки? Какой ранний!
Бимби качает младенца, прижимает его к пустой груди: старухи шепчутся, молока еще нет. Мужчины разливают по пластиковым стаканам мутное пойло, злей и горячее самогона, которым меня угощал добрый старик.
Со всех нар, изо всех клеток выползают подростки, детвора, старики. Кислый запах страха проходит, выветривается; его замещает прогорклый душный воздух победы.
- За Девендру! За вашего деда! — басит широченный человечина со сросшимися бровями. — Простите, что мы не успели.
- Он умер, как герой, как мужчина, — говорит седеющий тигр, исполосованный белыми шрамами. — Умер за Сомнат. Выпьем за Девендру.
- Не думал он умирать! — воет старая Чахна. — Все врал, врал! Говорила ему: замолчи, не зли богов! А он все — вот бы помереть...
Но мужчины-тигры ее не слышат.
- Там наша земля! Исконно наша! Не вонючих паков, и не узкоглазых, которые ее себе захапали! Никакой там не Индокитай, и никогда не будет! За великую Индию! Мы вернемся!
- За Индию! За Сомнат! — гремят голоса.
- Зачем он это сделал, ба?! — спрашивает Радж. — Он бы мог жить еще! Мы бы нашли ему воду, я почти договорился...
- Зачем... — баба Чахна смотрит на него, качает головой по-особому. — Дети не должны умирать вперед родителей, Радж. Они бы убили тебя... Он нарочно их разозлил.
- Я так не хочу! Не хочу, чтобы дед за меня своей жизнью платил! — Радж сжимает кулаки. — Мы уже договорились! Нашли ему воду! Ему и тебе! Нашли!
- Я... Мне не надо... — глухо говорит Чахна. — Куда я без него...
- Что вы говорите, бабушка! — всплескивает руками Соня. — Что вы такое говорите!
- Он знал: если Радж дверь откроет, нам всем конец. Он паков взбесил. Специально так сделал. Чтобы Радж не впустил их, — вздыхает Хему.
- Кто слышал его слова? — выговаривает Радж. — Что он им сказал?
- Девендра сказал: пока священный храм Сомнат стоит в сердцах его детей, он стоит в Индии, — сообщаю я.
- Кто это? — бурчат бородачи, прерывая разговор о том, что теперь непременно будет большая война.
- Это наш брат и друг! — твердо произносит Хему. — Он помог мне с керосином. Под пули за нас полез.
- Как тебя звать? — хмурится сутулый дядька с косматой черной гривой.
- Ян.
- Спасибо, что помог нашим. Мы не смогли, а ты смог.
Я киваю ему. Если бы не я, старик был бы жив, брат. Спроси у Раджа — он знает, с чего все началось, но он пьет за мое здоровье вместе со всеми. И если он простил меня, если тут все люди так великодушны, то...
И тут, холодея, понимаю, что назвался ему собой.
Ты слышала, Аннели?..
Но Аннели уткнулась в Сонин коммуникатор, кусает губу.
- Ты теперь один из нас, — Хему хлопает меня по плечу. — Знай, что тут у тебя всегда есть дом.
Я поднимаю стакан. Нужно нажраться. Забыть все, что я сказал, и тогда другие забудут, что они это слышали.
- Спасибо.
- Братья, — поднимает руку Радж. — Дед Девендра говорил: мы родились в блядское время и в блядском месте. Зачем бояться смерти, если следующая жизнь может быть в сто раз краше? В следующий раз появлюсь на свет тогда, когда наш народ будет счастлив.
Чахна плачет в голос.
- Но вот что. Сын у Хему родился ровно в тот момент, когда эти суки убили нашего деда. Он был праведником, дед, не то, что мы. Думаю, он должен сразу был перевоплотиться, и сразу человеком. И думаю еще, мой брат не случайно назвал своего пацана Девендрой.
Бородачи слушают эту ересь и кивают одобрительно. Не могу удержаться — бросаю взгляд на крошечного красного младенца Девендру. Тот у своей серьезной матери на руках, со мной рядом, глядит в пустоту — и взгляд у него старческий, мутный взгляд умирающего. И вдруг я слышу, как бегут мурашки по моей коже.
- Он тут, с нами, Девендра. Его кровь в этом мальце, а может он и сам в нем. Он ведь не захотел бы уходить далеко от нас, от своих... — говорит Радж, и голос его дрожит. — А если так, если он тут... Значит, скоро конец такой собачьей жизни. Скоро освобождение. Ведь дед говорил, он переродится тогда, когда наш народ ждет счастье.
- За Девендру! — слитно грохочут мужчины. — За твоего сына, Хему!
Я пью за Девендру. Аннели пьет.
Может быть, однажды, вру я себе, я вернусь — или мы вернемся? — сюда, в эту странную квартиру с чужими запахами и чужими храмами на стенах, и может, одна из этих клетей станет нашей. Ведь это единственное место, куда меня позвали жить, позволили быть своим, назвали другом и братом, даже если это тоже просто ритуал.
Может быть, в следующей жизни.
- Как ты? — я кладу руку ей на плечо.
- Вольф не отвечает.
- Может быть, он просто...
- Он не отвечает. Со мной происходит это все, а его нет рядом. Ты есть тут, посторонний, случайный человек! Почему ты? Почему Вольфа тут нет?! — всхлипывает она.
Улыбаюсь. Я улыбаюсь всегда, когда больно. Что еще делать?
- За малыша Девендру! — кричат женщины.
- Я решила, — Аннели утирается кулаком. — Этот доктор может подтереться своим приговором. Не может быть, что я не смогу завести детей. Этого не может быть. Я пойду к матери. Если она творит чудеса, пускай поможет мне. Пускай эта старая сука поможет своей дочери. Никто не будет решать за меня, какая у меня будет жизнь. Ясно?!
- Да.
- Пойдешь со мной? — Аннели ставит стакан. — Сейчас?
- Но мы ведь ждем тут твоего... Вольфа.
- Ты его друг, да? — она откидывает волосы со лба. — Что ты его все время выгораживаешь? Он то, он это, его преследуют, он в опасности! Что это за человек, который оставляет свою женщину насильникам?! А?! Что он за человек?!
- Я не... Я не его друг.
- Тогда зачем ты со мной таскаешься?!
Еще недавно я был полон сил и изобретательности, я думал, что смогу врать ей сколько угодно. А сейчас я хочу только положить голову ей на колени, и чтобы она гладила мои волосы. Чтобы внутри у меня все разжалось и потеплело.
- Кто ты вообще такой, а?! Кто ты, Эжен?!
- Я Ян. Меня Ян зовут.
- Ну и что это...
Она обрывает фразу недоговоренной по перфорации многоточия. Щурится. Потом ее глаза распахиваются, зрачки дрожат.
- Значит, мне не показалось. И твой голос...
Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Всю отвагу, сколько во мне было, я выскреб, чтобы назваться ей по имени. Сейчас стою холодный, испуганный, оглушенный.
- Я тебя помню.
Аннели оглядывается на хозяев.
Мужчины обсуждают войну и мусолят сплетни о том, что в Барселону якобы едет президент ПанАма, Тед Мендес, женщины наперебой советуют Бимби, как вызвать молоко.
Мой рюкзак при мне, а в нем — доказательства моей вины. Секунду назад я был им другом и братом, но если они увидят мою маску и мой инъектор, то линчуют меня в считаные минуты. Я в ее власти.
Я идиот.
Я усталый жалкий идиот.
- Это ты отпустил Вольфа? И это ты...
Киваю.
Я слабак. Слабак.
Ее светло-желтые глаза грязнеют; уши и щеки становятся багровыми. Слышу, как встают волоски у нее на загривке. Электрическое поле окутывает ее — не подступиться.
- Значит... Ты не случайный человек.
- Я...
- Это ловушка, да?! Ты ждешь Вольфа!
- Я же отпустил его, помнишь? Дело не в нем...
Протягиваю ей руку — но она отшатывается от меня.
- Здесь ты ничего не сможешь мне сделать!
- Не только... Здесь, — я улыбаюсь ей. — Нигде. Не получается.
Скулы болят от этой улыбки. Губы болят.
Аннели мигает. Вспоминает что-то... Все.
- Выходит, ты так и не сбежал из интерната? — медленно произносит она, всматриваясь в меня заново.
- Я пытался, — говорю я. — Только у меня ничего не получилось.
Она грызет ногти. Бородатые индусы говорят о никчемном американском президенте, их женщины расхваливают молчаливого младенца. Так решается моя судьба.
- Зачем ты со мной таскаешься? — спрашивает Аннели повторно, но голос у нее совсем другой; она почти шепчет — так, словно теперь это наш с ней секрет.
Я пожимаю плечами. Чувствую, как у меня дергается веко. Раньше такого не случалось.
- Не могу... Не могу тебя отпустить...
Проходит, наверное, минута — взгляд Аннели как палка с ошейником для дрессировки зверей, она схватила меня за горло и держит на расстоянии.
- Ладно, — наконец выговаривает она. — Если не можешь отпустить... Пойдешь со мной — туда? Пойдешь? Ян... Если ты тут не из-за Вольфа...
- Да.
Пойду. Не потому что иначе она отдаст меня на растерзание нашим хозяевам — это мне сейчас кажется нестрашным и неважным; а потому что она позвала меня с собой во второй раз — по моему настоящему имени.
- Тогда уходим.
Мы целуемся с Соней, благодарим Раджа, обещаем Хему, что обязательно свяжемся с ним, чтобы вместе запустить бизнес его мечты, желаем Девендре-младенцу счастья и здоровья. Зеленоглазая Европа больше не кажется мне демоном; я дотрагиваюсь до ее волос, и со мной ничего не случается.
Вдова Чахна стоит на балконе и шепчет что-то, глядя на пепелище.
Я мог бы попрощаться и со старым Девендрой — с ним и с сотней людей, которых помог убить — но я боюсь, что меня стошнит, если я снова буду смотреть на горелое мясо. Просто не хочется снова этой кислятины во рту, вот и все.
Уходим.
По закрученной в спираль лестнице поднимаемся на чердак, к черному ходу; Аннели шагает впереди меня — молча, не оглядываясь — и вдруг останавливается.
- Покажи мне. Покажи, что у тебя в рюкзаке.
Еще не верит; но теперь уже глупо пытаться переиграть все. Я был против правды, но сейчас, когда все открыто, мне легко, как от антидепрессантов. И я скидываю мешок с плеча, и открываю его, и показываю ей Горгонью голову.
Аннели каменеет — но всего на миг.
- У тебя коммуникатор светится. Сообщение.
И, будто забыв, что она только что видела, карабкается дальше. Я беру комм в руки, притрагиваюсь к экрану.
Действительно — сообщение.
Отправитель: Эллен Шрейер.
«Хочу еще».

Звонок.
Слово простое, но в интернате обычные слова часто имеют необычный смысл: комната для собеседований, лазарет, испытание.
Через звонок должен пройти каждый, и все мы знаем заранее, что от нас потребуется; те, кто уже преодолел это испытание, расправляют хвосты и глядят на остальных в своей десятке свысока, покровительственно делятся с ними секретом: как это было, что они чувствовали. Дело чести, конечно — сразу поклясться, что не чувствовал ничего.
В каждой десятке бывают такие, которым делают звонок, пока они еще совсем мелкие — этим на испытании приходится труднее всех, зато они и крутыми становятся раньше, и дальше им уже не так страшно. А те, кого проверяют в последние, старшие годы в интернате, обычно уже созрели: звонок дается им куда легче, да и ждать его они уже устали. С каждым следующим годом мысль от звонке становится все назойливей, все навязчивей — хочется, чтобы это просто случилось уже наконец. Сказать все — и поверить в себя, сбросить камень с души.
Звонок случается с каждым всего единожды, и другого шанса пройти это испытание не предоставляется. Те, кто завалил звонок, пропадают из интерната навсегда; что с ними делается, обсуждать запрещено. Таких, правда, немного.
В нашей десятке все началось со Сто Пятьдесят Пятого. Нам тогда было по семь, и о звонке мы слышали только жутковатые преднощные байки или отчаянный мальчишеский блеф. И вот в один день нас десятерых сняли с занятий по истории и вызвали к старшему вожатому.
- Тебе звонок, — сообщили в коридоре Сто Пятьдесят Пятому. — Ты знаешь, что делать?
Тот изобразил уверенную улыбку; впрочем, может он и просто улыбался. Сто Пятьдесят Пятый всегда врал столько, что за ложь все принимали редкую правду, которую он говорил случайно или по недоразумению. Я никогда не сомневался, что он со звонком справится запросто.
Гуськом нас провели по пустым белым коридорам, поднялись на трехкнопочном безысходном лифте, столпились в стерильной приемной старшего — экран в стене, в полу стоки, больше ничего примечательного.
Нас выстроили в ряд лицом к этому экрану — черному, пустому — и заперли дверь. Старший так и не вышел к нам, хотя мы все уже тогда знали: он все видит. Надо просто помнить об этом всегда, и тогда все получится.
Сто Пятьдесят Пятый держался молодцом. Скалился, подначивал Тридцать Восьмого, сплетничал с Двести Двадцатым. Потом пошли гудки.
Изображение включилось не сразу: сначала был просто голос.
- Бернар?
Женский голос, молодой. Какой-то... Переполненный, что ли. В нем всего было через край, вот так. За каждым произнесенным вслух словом было спрятано еще в сто раз больше в недоступном для человеческого уха диапазоне. Мы не могли это слышать — но, как инфразвук, нас это разом вывихнуло из балаганного настроения. Двести Двадцатый язык проглотил, Триста Десятый насупился, Седьмого аж затрясло.
- Бернар?
Экран мигнул — надо думать, они там сначала пропускали и звук, и картинку через модерацию, чтобы без сюрпризов — и на нас — на Сто Пятьдесят Пятого — посмотрела женщина — вроде бы нестарая, но уже исчирканная первыми морщинами, с чуть одрябшей кожей — и все же притом какая-то слишком живая, по нашим меркам чересчур теплая.
Сто Пятьдесят Пятый встретил ее молча.
- Бернар, ты меня видишь? Боже, как ты вырос! Бернар, мальчик, мой любимый... Ты знаешь... Эти господа дают нам сделать только один звонок... Только один. За все время. За все время, пока... Как ты? Как ты, кроха?
Я все впитывал. Стоял рядом с ним, так что видел: уши у него стали пунцовые. Но камера была так нацелена, что эта женщина видела только своего Бернара, а мы все оставались за кадром.
- Ты не можешь ничего сказать? С тобой все в порядке? Как они тебя там кормят, Бернар? Тебя не обижают старшие мальчики? Я пыталась делать запрос... Через министерство... Но они мне сказали — только один звонок, мадам. Вы сами выбираете, когда... Ты меня слышишь? Кивни, если слышишь...
И Сто Пятьдесят Пятый медленно кивает ей. Ему ведь всего семь.
- Слава богу, ты меня слышишь... Тебе не разрешают со мной разговаривать, да? Мы с папой очень по тебе скучаем! Я держалась три года... Они говорят — не стоит спешить, мадам, больше такой возможности мы вам предоставить не сможем... Но больше я не вытерпела... Хочу знать, что с тобой все хорошо. С тобой ведь все хорошо, Бернар?.. Как ты вырос... И стал таким красивым... Мы сохранили все твои вещи! Твои погремушки, и маленький турболет, и кота-сказочника... Ты его помнишь?
Я оглядываюсь на Сто Пятьдесят Пятого — мельком, потому что меня притягивает женщина на экране; мы все онемели.
Вот он, первый звонок. Никто еще не может освободиться от ведьминого волшебства. Если бы Сто Пятьдесят Пятый не подал нам пример, как знать...
- Неужели ты ничегошеньки не можешь мне сказать? Бернар... Я очень хочу позвонить тебе еще, посмотреть на тебя... Но... Они не разрешат. Я дура. Нетерпеливая дура... Просто сегодня три года, как тебя... Как ты переехал, и... У отца все в порядке. Три года. Скажи мне хоть что-нибудь, Бернар! Пожалуйста, время уже заканчивается, а ты так ничего и не сказал.
Время уже заканчивается, Сто Пятьдесят Пятый. Просыпайся.
И он встряхивает вихром, утирает нос тыльной стороной ладони и говорит.
- Ты дура и преступница. Я тебя больше никогда не увижу, и смотреть на тебя не хочу. Я вырасту и стану Бессмертным. И буду мочить таких, как ты. Вот так. А еще у меня будет новая фамилия. А твою фамилию я носить не буду.
- Что ты такое говоришь? — она мигом куксится. — Ты не можешь... Они заставляют тебя, да? Заставляют? Бернар! Мы с папой тебя обожаем... Мы... Папа тебя обязательно дождется, и...
- Я не хочу никогда с вами встречаться. Вы преступники. Пока!
- Что значит — время истекло? Постойте! Это ведь моя единственная... Вы сами говорили! Я же больше никогда его... Вы не имеете права!
Последние слова — не нам. Голос глохнет, экран мертвеет. Конец. Сто Пятьдесят Пятый харкает на пол и растирает плевок ногой.
Открывается дверь, появляется старший вожатый, потом наш доктор со своими устройствами. Меряет Сто Пятьдесят Пятому пульс, температуру, потоотделение. Кивает старшему.
- Прошел, — Зевс треплет Сто Пятьдесят Пятого по крученой макушке. — Герой.
Все. Отныне ему — всеобщий почет: пройти испытание в семь лет!
- Легкотня! — заявляет всем Сто Пятьдесят Пятый.
Звонок может сделать только тот родитель, который принял на себя ответственность за рождение ребенка. Тот, кому после изъятия осталось жить от силы десять лет. Пусть скажут спасибо, объясняют нам вожатые, и на это-то идут, только потому что Европа — цитадель гуманизма. В каком-нибудь Китае с преступниками не церемонятся.
Позвонить разрешается всего единожды — и каждый родитель волен сам выбрать день. Многие, конечно, тянут время — хотят успеть увидеть, как будет выглядеть их сын, когда вырастет. Только зря это.
Пятьсот Восемьдесят Четвертому звонят, когда нам по девять. На экране — мужчина с запавшими глазами, черные мешки, волосы переломаны; но главное — уши, такие же дурацкие, оттопыренные.
- Сын, — говорит он и облизывает губы. — Ты такой... Черт... Такой здоровый! Прямо мужик настоящий! Вымахал!
Пятьсот Восемьдесят Четвертый — хилый, нелепый даже без своих еще не наступивших прыщей, будущий онанист и вечная мишень насмешек, шмыгает носом, уставившись в пол.
- Мужик! — давит смех Сто Пятьдесят Пятый. — Мужичара!
Пятьсот Восемьдесят Четвертый пытается втянуть в узкие плечи свою ушастую голову — но шея слишком длинная, некуда ее поместить.
- Ты там не один? Нас слушают, да? — мужчина крутит своими локаторами, словно взаправду думает, что ему сейчас покажут остальных. — Не обращай внимания. Времени мало. Ты, в общем, запомни, сын — я был хороший человек. Я тебя любил. Просто на авось понадеялись, и... Для меня ты всегда будешь тот малыш, который...
- Малыыыш... — Сто Пятьдесят Пятый сейчас лопнет.
- Да... Да... Ты мне не отец! — тонко кричит Пятьсот Восемьдесят Четвертый. — Ты преступник! Из-за тебя! Из-за таких, как ты! Понятно?! Уходи! Я не хочу с тобой говорить! И у меня будет другая фамилия! Не твоя! И я буду Бессмертным! Уходи! Уходи!
Его отец разевает рот, как рыба на воздухе, а Пятьсот Восемьдесят Четвертый получает зачет.
Я боюсь звонка и мечтаю о нем; вижу его во сне так действительно, что, проснувшись, долго еще не могу поверить, что мое свидание отсрочено — какое облегчение! Я не знаю, что сказать моей матери. У меня есть все слова, нам их выдали, но как я скажу их ей? Репетирую во снах: «Я по тебе совсем не скучаю! Мне тут отлично! Лучше, чем было дома! Я сам стану Бессмертным и буду приходить к таким, как ты!», — говорю я ей. А она отвечает: «Пойдем домой?», и забирает меня из интерната.
Так — когда мне семь, и когда мне восемь, и когда мне девять.
Потом звонят Триста Десятому. Отец. Строгий, лысый, красномордый, огромный. Говорит он одной половиной: вторая мертвая.
- Уу ммээня быыл иынсууульт, — тянет он глупо и еле слышно. — Ээээл. Я ньээ знааюу, сскооолько мнеээ остааалоссь. Яаа решиил таак — фдруг нее... Неее... Успееею...
- Отец! — четко отвечает ему двенадцатилетний Триста Десятый. — Ты совершил преступление. Я должен искупить его. Я стану Бессмертным. Я отказываюсь от твоего имени. Прощай.
Доктор меряет ему пульс, показывает большой палец. Пульс у Триста Десятого, как у космонавта. Ему все ясно: преступник с инсультом — это просто преступник с инсультом.
Когда нам одиннадцать, звонят Двести Двадцатому. Это его мать — старуха с седыми патлами. Двести Двадцатого забрали, когда он был совсем мелким, и для его матери десять лет кончились раньше, чем для прочих. Вот ей скоро пора: оттягивала звонок до последнего.
Губы шлепают, глаза бегают тревожно; она не узнает его, а он — ее. Двести Двадцатый тут с двух лет, все, чему он выучился — стучать, юлить, хитрить — ему дал интернат. Матери он не помнит никакой — а в особенности той, которая сейчас слюняво лепечет на экране.
- Это ты, Виктор? Это ты, Виктор? Это ты? — знай повторяет старуха. — Это не он! Это не мой сыночек!
- Ты мне не мать! — скороговоркой выдает Двести Двадцатый. — Мне не нужна твоя фамилия, мне дадут новую, я выйду отсюда и буду Бессмертным, и не хочу видеть ни тебя, ни отца, вы преступники, понятно?
Слишком спешит, думаю я. Вряд ли оттого, что сердце дрогнуло: у Двести Двадцатого-то?! Нет, просто ему брезгливо смотреть на эту развалюху, и он хочет покончить с этим побыстрей.
Но порядок есть порядок: форма произвольная, содержание неизменное — объявить родителям, что по своей воле отказываешься от их фамилии, что запрещаешь им искать тебя после выпуска из интерната, что считаешь их преступниками и что собираешься вступить в ряды Бессмертных. Главное, конечно, искренность — ее доктор замеряет своими приборами, рассчитает ее по своей формуле — потливость плюс пульс плюс колебания зрачков плюс... Мы выцыганиваем у поговоривших шпаргалки, они объясняют нам, как точно пройти — и все же мы волнуемся.
Наша десятка начинает делиться: те, кто прошел испытание звонком — будто вступают в какое-то тайное общество. К нам, непоговорившим, отношение презрительное: пороху не нюхали. Мне хочется уже туда, к ним, к крутым. Но мне все не звонят.
Я продолжаю тренировки. Слова заучены: «преступница», «отрекаюсь», «Бессмертный». Четко, раздельно, жирными печатными буквами.
Но эти слова как бы вытиснены на одной стороне листа. А с другой — их видно еле-еле, насквозь, на свет — напечатаны другие. Не могу прочесть — но это что-то сбивчивое, обиженное, жалобное. Тогда я, напугавшись, перестаю смотреть себя на просвет.
Когда нам всем по двенадцать, Девятьсот Шестой берет и заявляет, что не считает свою мать преступницей. Пытаюсь вправить ему мозги, но Двести Двадцатый успевает его сдать; Девятьсот Шестого забирают в склеп, а я бегу в экран. И тем спасаюсь: из интерната мне не сбежать, зато ящик отлично вылечивает меня от глупости. Когда меня выпускают, я уже знаю — и что сказать ей, и как. Звони мне! Звони мне, шлюха!
Звонят Тридцать Восьмому — красивый старик с лысиной, обрамленной седыми кудрями. Так мог бы когда-нибудь выглядеть и сам Тридцать Восьмой, если бы не решил стать Бессмертным. Но он решает.
- Ты возмужал, — мягко улыбается ему отец, глаза блестят; потом молчит, тратя секунды, чтобы сказать все сразу. — Прости, что раньше не звонил. Мне сто раз хотелось это сделать. Но... Я, знаешь, мечтал дожить до того дня, как ты начнешь взрослеть. Чтобы представить себе... Каким ты будешь. Потом. Когда. Ну, потом. Ты ведь, конечно, понимаешь, что они тебя не отпустят, пока я не... Пока я жив.
- Возмужал! — ржет Сто Пятьдесят Пятый. — Скажем твоему папану, что ты попкой приторговываешь? А?
Тридцать Восьмой расставляет ноги на ширину плеч, упирается — и, не отрывая глаз от экрана, произносит:
- Я не возмужал. Меня тут используют. Из меня сделали тут куклу, па. Понял? И ты в этом виноват. И такое ни с кем не должно быть. Я выйду отсюда и пойду в Фалангу. У меня будет новая фамилия и новая жизнь. И если еще какая-то сука напомнит мне...
Он отталкивает отца и так глядит на Сто Пятьдесят Пятого, что тот больше никогда не шутит над ним.
Почему мне не звонят?! Почему им так легко — а я должен ждать?!
Нам тринадцать.
Приходит очередь Девятисотого — медленного, мрачного, тугого. Его мать рыдает взахлеб, Девятисотый хмуро наблюдает за ее истерикой.
- Я тебя не помню, — говорит он своей маме. — Вообще не помню.
Тем легче ему произнести правильные слова.
Сто Шестьдесят Третий — гиперактивный кретин, псих и драчун — видит своего отца, источенного раком, обмотанного какими-то проводами, блеющего еле-еле извинения — и принимается орать на него благим матом.
- Сдохни! Сдохни, мразота! — он спускает штаны и показывает умирающему свою худую задницу.
Засчитано; испытание он проходит.
Она что, собралась звонить мне последним?!
Я в тысячный раз принимаюсь прикидывать: в интернате я с четырех; после укола редко кто живет дольше десяти лет. Могут быть исключения, конечно... Но, выходит, ей остался всего год, чтобы сделать это наконец и освободить меня! Я хочу, хочу выплеснуть на нее все это, хочу увидеть ее развалиной, у меня от предвкушения под ложечкой сосет — почему она не позвонит мне?!
Когда нам по пятнадцать, нас всего трое — Девятьсот Шестой, легко срастивший все кости, которые ему раздавили в ящике, отожравшийся и непокоренный, рохля и плакса — Седьмой, и я.
Проверяют Седьмого.
Седьмой за последние годы вытянулся, хомячьи щеки сдулись, он больше не хнычет, когда его бьют и не скулит во сне. Но когда он видит свою мать, лежащую на подушках, заговорить с ней ему никак не удается. Седьмой появился в интернате, когда ему было пять; должно быть, он помнит ее хорошо — молодой, счастливой, полной сил.
- Герхард, — зовет его с подушек дряхлая страшная старуха; кожа пергаментная, тонкая и желтая, лицо все в пигментных пятнах; самое мерзкое — она лысеет. — Герхард, малыш. Мой малыш. Ты не изменился.
- Ты тоже, мам, — вдруг говорит Седьмой.
Она устало улыбается — видно, чего ей стоит растянуть губы.
- Я умираю, — говорит она. — Пара недель осталась. Я ждала, сколько могла.
Седьмой молчит, его брылы висят понуро, он раздувает грудь, чтобы выпалить залпом про Бессмертных, про фамилию, про преступников, но никак не может собраться.
- Хорошо, что я тебя успела увидеть. Теперь не так страшно.
- А... А что с отцом? — чужим писклявым голосом спрашивает Седьмой.
- Не знаю, — его мать трудно ворочает тяжелой желтой головой. — Мы расстались давно. У него своя жизнь.
- Мам. Послушай. Я пойду в Бессмертные, — наконец решается он.
- Хорошо, — кивает старуха. — Ты делай, как тебе лучше, сынуля. Делай, как знаешь. Ты только... Я хочу у тебя прощения попросить. Мне там тяжко будет, на том свете, если ты меня не простишь...
Седьмой осекается, борется с кадыком. Десятка молчит, даже Сто Пятьдесят Пятый не вмешивается. Двести Двадцатый замер в охотничьей стойке. Меня знобит.
- Я тебя прощаю, мам, — говорит Девятый. — Прощаю.
- Идиот! — шепчу я.
Старуха улыбается благодарно, откидывается в подушках, и тут же связь рвется. Несколько долгих минут к нам никто не входит. Потом дверь поднимается, в проеме возникает доктор.
- Пойдем-ка, дружок, сделаем пару анализов, — манит он Седьмого. — Ты, кажется, переволновался.
И мы, и Седьмой — все знают, что это означает, но сил сопротивляться у него не осталось. Всю непокорность, которая у него скопилась за десять лет, он потратил на этот разговор.
- Пока, пацаны, — бормочет он нам.
- Давай, — отвечает ему Девятьсот Шестой.
Больше мы никогда его не видели, а его место оставалось свободным до последнего, выпускного года.
Мне становится страшно: а я — смогу?
Когда она позвонит мне, я — смогу плюнуть в экран? Сумею не увидеть ее слез, не услышать ее голоса, смогу не узнать ее?
Но она не звонит.
Она либо умерла, когда я был совсем мал, либо не захотела со мной разговаривать. Может, просто забыла обо мне. Приговорила меня к двенадцати годам строгого режима — и бросила меня гнить, и прожила чудную жизнь, а потом сложила ручки на пузе и преставилась себе спокойненько, с улыбочкой, так и не вспомнив, что кого-то там когда-то рожала.
Пусть случится чудо! Пусть окажется, что у нее крепкое здоровье, иммунитет нечеловеческий, пусть она еще год проваляется где-нибудь на больничной койке, отказываясь подыхать — и пусть она позвонит мне в последний год! Я припомню ей ее распятие, ее обещания, ее гребаные сказочки, ее утешения; прокляну ее, и тогда она меня наконец отпустит!
Иначе — как я выйду отсюда?!
Звонят Девятьсот Шестому.
Мать. Та самая, назвать которую преступницей его не заставили даже склепом. Она еле дышит, подбородок дрожит и рот не закрывается; мы пялимся на нее всем строем, но все давят смешки — из уважения к Девятьсот Шестому. Не спускаю с него глаз, будто это не его мама, а моя. Как он справится? Боюсь, что он расклеится сейчас, как Седьмой, или пойдет на принцип, вспомнит, как лежал в ящике... Звонок — ерунда по сравнению с ящиком.
- Люб. Лю. — беззвучно проговаривает старая женщина.
Вся она увяла, капельницы высосали из нее кровь, а глаза не выцвели. Крупный план. Такие же глаза, как у Девятьсот Шестого — карие, уголки оттянуты книзу. Будто он сам в себя смотрится.
- Ты преступница, мать. Я отказываюсь носить твою фамилию. Когда я отсюда выйду, я стану Бессмертным. Прощай.
Вот тут-то ее глаза и вытравливаются. Она шепелявит натужно еще что-то, но ничего не получается. Девятьсот Шестой улыбается.
Ее отключают — может, и от всей этой прорвы попискивающей аппаратуры тоже — свое дело она сделала, теперь можно и об экономии вспомнить.
В эту секунду я прощаю Девятьсот Шестого за то, что он был лучше меня. Мужественней, терпеливей, тверже. Потому что он наконец отказался от самого себя — так же, как я отказался, когда валялся в проклятом ящике. Он стал новым человеком — так же, как и я стал. Мы снова можем быть братьями!
Доктор фиксирует: показатели у Девятьсот Шестого — что надо. Испытание пройдено.
Оказавшись с ним наедине, я отвешиваю Девятьсот Шестому восхищенную затрещину.
- Как ты это сделал?!
- Сделал, — жмет плечами он. — Сказал и сказал. Она знает, что я ей неправду сказал.
- Как?!
- Она всегда знает, — уверенно говорит он.
- Ты что... Обдурил их?!
Он смотрит на меня как на идиота.
- А ты что, всерьез собирался говорить своей матери, что она преступница?
- Они же нас измеряют!
- Это все херня! — шепчет он мне. — Есть способы технику обмануть! Пульс, пот... Какая разница!
Он их обставил. Притворился и обставил нас всех.
- Я это в ящике понял, — говорит он. — В склепе. Они тебя поломать. А если ты резиновый? Ты просто берешь себя-настоящего и прячешь внутрь себя-с-номерком. Главное — так спрятать, чтобы при обыске не нашли, понимаешь? Даже если в кишки с фонарем полезут. Ты — это ты! Они тебя переделать хотят, и ты просто дай им думать, что у них получилось. И тогда ты себя настоящего в себе фальшивом отсюда вынесешь. Просят, чтобы клялся — клянись. Это все слова, они не значат ничего.
- Ты... Ты простил ее? — говорю я совсем тихо — так, что даже сверхчувствительные микрофоны не различат ничего.
Но Девятьсот Шестой кивает мне.
- Она мне так говорила: я живой человек, Базиль. Я просто живой человек. Не жди от меня слишком многого. Я запомнил. И я тоже просто живой человек. Думаю, она понимает.
Я кусаю нижнюю губу, отдираю тонкую полосочку кожи — чтобы было больно.
- Ладно. Еще услышат. Пошли.
Мне этот его способ не подходил. Мне бы все равно пришлось делать все всерьез — если бы мне позвонили. Только мне так и не позвонили.
Однажды, когда я уже не мог ждать, я сам напросился к старшему и потребовал, чтобы мне дали позвонить матери и пройти испытание. Он сообщил мне, что звонки из интерната запрещены для воспитанников.
А еще через две недели мне сказали, что от испытания звонком я освобожден.
Мне так никогда и не довелось даже не осмелиться на то, что сделала Аннели.
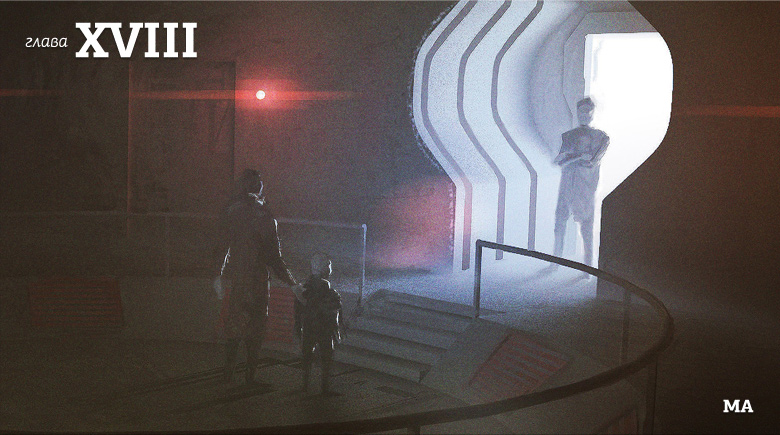
До Эщампле недалеко. Хотя дорога идет по самому Дну, сквозь чад и хаос, и два раза нас пытаются ограбить, к миссии мы прибываем без потерь. Замысловатое здание, похожее на раковину гигантского древнего моллюска, крошится от времени и небрежения, из выбитых окон вывешено серое полотнище с красным крестом и красным полумесяцем. Краска выстиралась, побурела, как давно пролитая кровь.
О послании Эллен я не думаю; Эллен просто не помещается в меня - все сейчас занято Аннели.
До самых дверей девчонка маршировала упрямо, не проронив больше ни слова, но на пороге миссии вдруг замирает. Оглядывается на меня, притрагивается зачем-то к животу. Потом из глубины дома доносится детское мяуканье; Аннели утирает лоб и толкает дверь.
Длинный коридор - приемные покои - похож на военный лазарет из героического старого кино. Только вместо раненых по обе стороны от узкого прохода сидят и лежат беременные - измученные, вспотевшие, мутноглазые. Натужно стрекочущие вентиляторы нервно крутятся на подставочках и только зря гоняют туда-сюда углекислый газ: проредить жуткую духоту они не могут. Пропеллеры забраны в решетки, к которым приделаны развевающиеся на дохлом ветру бумажные ленты - хоть как-то гонять полчища мух, которые все норовят рассесться на щеках и грудях ожидающих. Слышно запах мочи: женщины боятся покинуть очередь.
По бокам - комнаты. В одной заходится пискливым плачем младенец, потом еще один, потом целый хор. Из другой слышны стоны и матерщина - кто-то рожает. Мы перешагиваем через потерявших чувства толстых негритянок, через изможденных рыжих баб с прозрачными глазами, нам вслед бранятся на каком-то мертвом наречии - мы идем без очереди.
Я готов принять как необходимость то, что родился маленький Девендра: его народ и без того слишком мал, каждый воин у них на счету. Но отчего так приспичило рожать всем остальным?
- Я к матери! - оправдывается Аннели. - Моя мать - доктор!
Ноги, перегораживавшие проход, подтягиваются, ругань сменяется благоговейным шепотом. Нас пропускают беспрекословно. Нас просят о благосклонности. Кто-то сует нам мятые денежки давным-давно сгинувшего государства, будто мы жрецы, которые допущены к богине, и нас тоже надо задобрить.
И вот кабинет.
Аннели не стучит, просто дергает дверную ручку, и мы попадаем прямиком на гинекологический осмотр. Женщина в хирургической маске оборачивается к нам, чуть не зажатая двумя жирными складчатыми шоколадными ногами с желтыми пятками.
- Вон...
- Привет, ма.
Негритянка поднимает хай, Аннели скрещивает руки на груди и закусывает губу; отказывается уходить, а ее мать упрямо доводит осмотр до конца. Я остаюсь с Аннели, но чувствую себя кретином и стараюсь глядеть мимо, несмотря на известную силу притяжения черных дыр.
Когда дело завершено, а мы орошены слюной и облучены негодованием, и толстуха выковыливает из кабинета, мать Аннели, упросив тощую мулатку подменить ее, наконец снимает намордник.
Они ничем не похожи.
Белокожая брюнетка, она чуть ниже своей дочери и, пожалуй, даже изящней ее, хотя руки у нее жесткие и в пальцах видно силу. Не угадаешь, что рожала: бедра узкие, и вся она поджарая, сухая, обезжиренная. Нет особого разреза глаз, который так зацепил меня у Аннели, нет острых высоких скул. Но она по-настоящему красива и - сквозь усталость - молода. Большинству из нас вакцина останавливает возраст на тридцатилетней отметке, но матери Аннели нельзя дать больше двадцати двух.
Может, ошибка?
- Кто это? - она кивает на меня.
- Это Ян. Он мой друг.
- Марго, - она закидывает в рот конфету. - Милый молодой человек. Это новый?
- Меня не интересует твое мнение.
- Я думала, ты хочешь познакомить его с родителями.
- С какими еще родителями?
- Ты опять не в духе. На, съешь конфету. Мятная.
- В прошлый раз ты угощала меня сигаретами. Бросила?
- Пациенты жалуются.
- Может быть, кого-то из них и пора отсюда выкурить.
- Я стараюсь помочь всем.
- И как успехи? Раньше у тебя выходило полтора ребенка в день.
- Сейчас два с половиной. Показатели растут.
- Всегда было интересно, что вы делаете с этой половиной.
- Милая, там меня очередь ждет. Ты по делу, или просто поболтать? Можете зайти к нам вечером, мы с Джеймсом...
- Я по делу, ма. Хочу еще поднять твои показатели.
- Прости?
Аннели смотрит на нее в упор. Изгрызенная губа кровоточит.
- Ты что? - начинает Марго. - У тебя?..
- Не знаю. Ты мне скажешь.
- Сейчас? Я?
- Да. Прямо сейчас. Пока я не передумала.
- Если хочешь, тебя может посмотреть Франсуаза, она тоже... - Марго привстает.
- Нет. Ян... Выйди, пожалуйста. Мы поиграем тут в дочки-матери.
И я жду в коридоре; снова один среди беременных. На мою руку садится муха, я заношу ладонь, чтобы размазать ее, но забываю, зачем это сделал. Муха трет передние лапки друг о друга, две арабки в чадрах мужскими голосами говорят на своем языке, состоящем из одних гласных. Раз в минуту вентилятор, расположенный в трех метрах от меня, горячечно дышит в мою сторону и снова отворачивается, с улицы доносится чье-то заунывное пение, вдалеке играют на тамтамах, блестят от пота рыжие головы. У одной из рыжих отрублена кисть.
Меня тут нет. Я там, с Аннели.
Пусть эта бледная стерва скажет ей, что у нее все будет хорошо. Не знаю, почему это вдруг стало для меня важно; дело не каком-то вопящем до посинения младенце, и точно не в том, чтобы Рокамора смог ей однажды все-таки его заделать. Просто у Аннели все должно быть так, как нужно ей - хоть раз. На эту девчонку свалилось слишком много. Мне бы такое давно переломило хребет, а она отряхивается и живет дальше, словно ничего не произошло. Если ей так надо уметь беременеть - пусть она может.
На мою руку садится вторая муха, еще жирнее первой. Ползет мерзко-щекотно к своей подруге; моя ладонь все еще занесена над ними обеими.
И Аннели не прогнала меня. Не выдала мой секрет нашим новоявленным братьям. Может быть, потому что еще рано от меня избавляться, потому что она еще не решила, нельзя ли меня как-нибудь применить. А может, потому что она видит во мне не только штурмовика, не только насильника, не только телохранителя? Потому что...
Та муха, что пожирней, вскарабкивается сзади на первую; та пытается ее сбросить, но только для виду; обе жужжат сладострастно, мельтешат крыльями, якобы чтобы взлететь, но любовь приземляет их. Хочется прибить одним махом обеих, но что-то мешает. Что-то мешает. Отдергиваю руку - и они отправляются догонять друг друга по воздуху, совокупляясь прямо на лету.
Дверь распахивается, Марго в своем наморднике кричит медсестру, нужно делать какие-то анализы; она еще бледней обычного. Кряжистая азиатка в халате провозит в ее кабинет допотопный агрегат с щупами и мониторами, тот дребезжит на выщербленном полу. Женщина без кисти уважительно машет культей вслед агрегату. Перехватывает мой взгляд, обращается ко мне за одобрением.
- Вот это техника! - такой акцент, будто она слова топором вытесывает.
- Высший класс.
Мой ответ ее приободряет; видно, ей хочется потрепаться.
- У нас-то дома на весь район один доктор всего был. Доктор был хороший, только лекарств у него не было. А из техники у него была серебряная трубочка. От отца досталась.
- Что? - я прислушиваюсь. - Какая еще трубочка?
- Серебряная трубочка. От дифтерии лечить.
- Что такое дифте... Как?
- Дифтерия. Когда горло пленкой зарастает, такая болезнь. И человек задыхается насмерть, - охотно объясняет безрукая. - У нас многие хворают.
- А зачем трубочка?
- Ее в горло больному вставляют. Пленку прорывают. И он через эту трубочку дышит, пока болезнь не пройдет. Пленка серебра боится.
- Суеверие какое-то. Нет такой болезни, - уверенно говорю я.
- Как нет, если у меня брат мальчишкой от нее помер? - она цыкает зубом.
- И что же его доктор не спас своей трубочкой?
- Не смог. У него ее сборщики податей отобрали. Серебро же.
- Это где такое бывает? - интересуюсь я.
- Из России мы, - улыбается безрукая.
- О! А я знаю, у вас там...
Но тут другая рыжая хватается за свой раздутый живот, и нашей светской беседе конец. Они принимаются лопотать на своем лесорубском языке, азиатка-медсестра выскакивает из кабинета - лицо бесстрастное - и волочет ту, что с обеими кистями, в родильный цех, или как там называется это помещение. Безрукая, шаркая, спешит за ней, уговаривая, наверное, потерпеть.
Дверь в кабинет Марго остается приоткрыта, изнутри доносятся голоса. Меня не звали, но мне необходимо все знать. Прячусь и подслушиваю.
- Кто это сделал с тобой? - тихо спрашивает Аннели ее мать. - Что случилось?
- Какая тебе разница? Просто скажи, что у меня.
- Надо подождать анализов, но... Но на сканировании...
- Хватит нагнетать! Ты можешь просто...
- У тебя все порвано, Аннели. Органы в ужасном состоянии. Матка... И яичники... Как это они?..
Я знаю, я могу рассказать. Аннели, не надо это вспоминать...
- Кулаком. На руке что-то было. Кольца. Браслет. И всем остальным, - буднично произносит она.
Несколько секунд ее мать пытается, наверное, имитировать сострадание, но голос, которым она продолжает - стылый, деловой.
- Начинается заражение. Надо удалять, Аннели... Стерилизовать...
- Что значит - стерилизовать? Что это значит?!
- Послушай... То, что у тебя там сейчас... Я не думаю, что... Не думаю, что ты когда-нибудь теперь...
- Ты думаешь или ты не думаешь?! Говори по-человечески, я сюда за этим пришла! Никто не скажет мне об этом конкретней моей мамули! Вот уж кто точно не станет обнадеживать меня зря, да? Говори!
- Я боюсь... - Марго шуршит оберткой. - Какого черта. Ты не сможешь забеременеть. С таким месивом внутри... Вот и весь сказ.
- И что? Даже ты ничего не сможешь сделать? Ты, святая, чудотворная? А?! Ты, к которой очередь на сто лет вперед! Чего они к тебе так рвутся, если ты не можешь помочь собственной дочери?!
- Аннели... Ты не представляешь, как мне жаль...
- Надеюсь, что тебе жаль, потому что твоя линия оборвется тоже! Не знаю, хотела ли ты нянчить моих внуков, но теперь извини...
- Боже... - Марго замолкает. - Как ты живешь? Как такое могло с тобой стрястись? Я думала, ты уехала в Европу... Устроилась...
- Я тебе расскажу, как. Я залетела от своего мужика, и к нам прислали Бессмертных. Знакомая история? Только вместо укола они решили дело кулаком.
- Моя бедняжка...
- У тебя есть сигареты?
- Я не курю. Правда, все выбросила. Хочешь?
- Меня тошнит от твоих конфет! Как мне помогут конфеты?!
Войти. Схватить эту бледнолицую суку за шею, напихать ей полный рот ее чертовых конфет, в дыхательное горло натолкать.
- Бессмертные... Какой кошмар... Ты не должна была отсюда уезжать... Сюда они не показываются... Ты могла бы...
Теперь ты знаешь, где от них прятаться, а? Теперь, когда твой муж в могиле, а твоя дочь прошла через интернат, до тебя дошло! Что же ты отпустила Аннели в нашу счастливую страну?! И зачем ты сейчас читаешь ей морали?!
- Это уже случилось! Мне не нужны твои сценарии, ма! Я сама могу нарисовать себе свою счастливую жизнь, у меня все в порядке с воображением. У меня с проблемы с маткой и с яичниками! А ты ничего с этим не можешь сделать, а? Ты даже не хочешь попробовать! Я понимаю, сильно твои показатели это не поднимет, но все же! Неужели совсем ничего?!
Что-то пиликает.
- Подожди. Анализы пришли. Гормоны и... - Марго щелкает по клавишам. - И бактериальный фон... Кровь...
Хватит тянуть! Говори, что там?!
- Я выпишу тебе антибиотики... Чтобы не началось заражение крови и...
- И что будет? Что со мной будет потом?
- Но я все равно рекомендую операцию. Удаление...
- Нет!
- У тебя все равно не будет детей, Аннели! Надо минимизировать риски...
- Давай сюда свои гребаные таблетки! Где они?!
- Послушай...
- Ты не будешь за меня решать. Это моя жизнь, ты никогда ничего в ней не решала и не будешь решать, что со мной произойдет, а чего не произойдет. Давай таблетки. Я ухожу.
- Мне правда жаль! Вот... Держи. И эти... Два раза в день. Постой... Может, ты... Вы зайдете сегодня к нам с Джеймсом? Мы съехались. Теперь живем прямо тут, над миссией...
- Дай коммуникатор.
- Что?
- Дай мне свой коммуникатор.
Опять она за свое. Слышу, как Марго отстегивает браслет, как Аннели сосредоточенно сопит, проверяя свою почту.
- Спасибо. Спасибо тебе за все, мамочка.
- Вы зайдете? Я заканчиваю в десять...
Аннели вылетает в коридор и шваркает дверью так, что лепнина крошится. Выходим на улицу, она дрожащими пальцами разрывает оболочку таблеток, слизывает их с ладони сухим языком, насилу глотает. Что делать дальше, она, похоже, представления не имеет.
- Куда мы теперь? - я притрагиваюсь к ее локтю.
- Я - никуда. А ты - куда хочешь.
Напротив - лавка, торгующая ливанской шавермой.
- Подожди меня тут.
Возвращаюсь с чаем и с двумя дымящимися свертками. Второй этаж над харчевней - занюханный секс-мотель, чудовищно дорогой, но с номерами на двоих; хорошо, в этой адовой сутолоке хотя бы любовью можно ширнуться без свидетелей.
- Давай просто передохнем, а?
Ей все равно. Консьержа нет, оплата автоматическая. Стенки тонкие, все завешаны бабами с раздвинутыми ляжками, видимо, чтобы создавать романтическое настроение; комната размером с мой шкаф - одна сплошная кровать. Зато есть окно - неожиданно большое настоящее окно, и выходит оно прямо на двери миссии. Первым делом Аннели его зашторивает.
Всучиваю ей шаверму.
- Надеюсь, не человечина, - шучу я.
Она откусывает и принимается пережевывать ее - только глотать забывает.
- Лучше бы она сдохла, как твоя, - говорит Аннели. - Каждый раз смотрю на нее, и думаю, что папа зря принял за нее укол. К нам с Джеймсом... Шлюха.
- У вас с ним... Ты его любила? - мне неловко спрашивать ее об этом.
- Она вообще меня не хотела. Отец настоял. Они в большой Европе жили, в Стокгольме. Она забеременела, хотела делать аборт. Отец говорил - не надо, мы сбежим в Барселону, да хоть куда, мы будем жить, как раньше люди жили, семьей. Но мама тогда ждала вакансии. В клинике пластической хирургии. Большой и дорогой. Несколько лет ждала. И ни в какую Барселону ехать не собиралась. Отец так настаивал на ребенке, что она уступила. Так она мне сказала. Честная, а? Но из Стокгольма уехать отказалась. Место в клинике освободилось, когда ей оставался месяц доходить. Сказали, ждать столько не будут. Она нашла подпольный роддом, сделала кесарево. И на третий день вышла на работу.
- Ты не похожа на нее совсем, - говорю я.
- С чего бы я была на нее похожа? - усмехается Аннели. - Она меня вообще видела? Она деньги зарабатывала, а со мной сидел отец. Менял подгузники, подмывал, кормил из бутылки, учил ползать, сидеть, стоять, ходить, писать в горшок, мыть руки, говорить, читать, петь, рисовать. По вечерам укладывал спать, сказки рассказывал на сон.
Я набиваю свой желудок стылым мясом. Все тело отчего-то начинает чесаться, и веко снова дергается.
- Особенно я любила одну, про девочку Аннели. Там их много было про эту девочку, но одна была про то, как Аннели узнала, что она на самом деле принцесса, а ее отец и мать - король с королевой. Я тогда взбесилась на него. Сказала, что никакого короля мне не надо, что меня и с моим папой все устраивает. И стала рассказывать сказку вместо него. А потом мы ее по очереди допридумывали. Весело получилось. Это была самая интересная из всех. А чем все кончилось, вылетело из головы. Думала - свалю из интерната, найду его и спрошу.
Я откладываю шаверму. У нее нет вкуса. Глотаю чай - холодный.
- Когда я маму разыскала, хотела у нее узнать. Она сказала, что не в курсе, потому что ей никогда не удавалось уходить с работы раньше одиннадцати, и я уже спала, потому что кто-то же должен был зарабатывать деньги в этом доме, а тот, кто не умел ничего, кроме того, чтобы болтать, тот сидел дома и болтал. С чего бы мне быть похожей на маму? Я копия отца.
- Тебе повезло.
- Что?
- Ты хотя бы можешь съездить ей по физиономии.
- Никак не решусь. Хотя сегодня я была близка. Я думала, ты хочешь познакомить его с родителями... - слова Марго.
Пью чай.
- С твоим отцом я бы познакомился.
Аннели усмехается.
- А со своим не хотел бы?
- Зачем? К отцу у меня никаких вопросов. Кроме того, почему у меня такой клюв.
Она откидывается в постели. Смотрит в потолок - низкий, с неровно-желтыми пятнами от протекшей у соседей воды.
- Тебе ведь сейчас нельзя со мной тут быть? - спрашивает Аннели. - Ты ведь сейчас нарушаешь какие-то свои правила, да?
- Кодекс.
- И что, никто не спросит, что ты делал в Барсе с подружкой террориста?
- Я об этом сейчас не думаю.
- Правильно. Есть вещи, о которых лучше вообще не думать.
Аннели вздыхает, переворачивается на живот.
- У тебя нормальный нос. Это перелом, да? - она притрагивается к моей переносице.
- Перелом, - я отодвигаюсь. - По работе...
- По работе, - она убирает руку. - Зато к матери, наверное, у тебя вопросов накопилась масса.
Я не собираюсь откровенничать с ней, но как-то она прокручивает дырочку в моей скорлупе. Эта глупая история про сказку с забытым концом... Из дырочки выглядывает Семьсот Семнадцать. Он устал жаловаться мне, он знает все мои ответы заранее.
- Почему она не заявила о беременности? - выманивает его Аннели. - Почему отдала тебя Бессмертным?
- Для начала - почему она не предохранялась во время случек с проходимцами, - улыбается ей Семьсот Семнадцатый.
Она кивает.
- Почему не приняла таблетку, когда я был комком из клеток, и мне было все равно.
Аннели не перебивает Семьсот Семнадцатого, и он борзеет.
- Почему не выковыряла меня, когда у меня еще не было рта: я бы не возражал. И да, почему надо было рожать меня дома и скрывать ото всех. Зачем надо было ждать, пока меня заберут Бессмертные. Пока запихнут в интернат.
Аннели что-то пытается вставить, но его уже не заткнуть. Пальцы скрючиваются, давлю шаверму в лаваше как женскую шею, все руки в белом соусе, мясо в разрывах теста.
- Пока мне там будут ломать пальцы и пихать в меня хером. Пока меня запрут в ящике! Пока я неделю не провожусь в своем дерьме! Пока я не стану таким же, как все! Почему нельзя было задекларировать меня по-человечески, чтобы я мог с ней побыть хотя бы десять лет! Хотя бы сраные десять законных лет!
Я швыряю шаверму в стену, белый соус льется по лицу какой-то модели. Глупо и пошло. Запал проходит. Вся эта моя исповедь - идиотизм и самоунижение; Аннели и без меня есть, о чем горевать. Стыдно. Шагаю к окну, утыкаюсь в дымную улицу.
- Тебя держали в ящике? - спрашивает она. - В склепе?
- Да.
- За что?
- Пытался сбежать. Я же говорил...
- Какой у тебя был номер?
Открываю рот, чтобы сказать - и не получается. Имя свое мне сказать проще, чем номер. А когда-то было наоборот. Ломаю себя и выдавливаю:
- Семь. Один. Семь.
- А я была Первая. Класс?
- Красиво.
- Очень. Предыдущая Первая завалила испытание звонком, так что ее сослали в училище для вожатых. Номер освободился, но остались ее подружки-кобылы. Эти тупые суки каждый раз шипели на меня: «Ты не настоящая Первая, ясно?». Любили подкараулить меня в сортире и оттаскать за волосы по полу. Так что я знала, кем стану, если застряну там слишком надолго.
- Кто тебе сказал про вожатых? Про то, что бывает с теми, кто завалит испытание?
- Наша врачиха, - криво улыбается Аннели. - Любила со мной поболтать.
У нас об этом только ходили слухи. Завалишь испытание - останешься в интернате навсегда. Вожатый - это пожизненно.
- А у нас был один... На три года меня старше. Пятьсот Третий. Все время пытался нагнуть меня. Если бы не он, я бы, наверное, не решился сбежать. Я ему откусил ухо.
- Ухо?! - она смеется.
- Ну да. Ухо. Откусил и спрятал. И не отдавал, пока оно не стухло.
И вдруг мне это тоже кажется смешным - глупым и смешным. Откусил своему мучителю ухо - и убежал с ухом во рту. Такого в кино не показывают. Потом понимаю, что она тоже знает Пятьсот Третьего.
- А про пистолет... Это правда? Что ты нашел окно, проплавил дыру?
- Ты меня все-таки слушала? Я думал, ты вся в мыслях о своем Вольфе...
- Я тебя слушала.
- Да. Про пистолет правда. Только, оказалось, это не окно, а экран. Далеко не убежишь.
Раздергиваю шторы, распахиваю ставни. Сажусь на подоконник.
- А ты вообще путаешь реальность с картинками, а? - Аннели улыбается мне. - В райском садике своем тоже в экран сиганул... В Тоскане.
- Бывает.
- Ты молодец, - она подходит ко мне, балансируя, по продавленному матрасу. - Пистолет, окно. Герой.
- Идиот.
Она забирается на подоконник с ногами, усаживается спиной к откосу.
- Герой. У меня-то все было попроще. Я нравилась нашей докторше. Примерно как ты своему Пятьсот Третьему. Она меня год добивалась. Клала к себе в лазарет, вызывала на осмотры, лечила от несуществующих болезней. Раздевала по любому поводу. Как-то предложила полизать мне. Она была добрая баба, не хотела меня принуждать. А потом мне позвонил отец, и я ответила ей взаимностью.
Нет, Аннели. Не так! Ты обнаружила выход, ты прокралась мимо охраны, отключила сигнализацию... Ты сумела найти выход, ты совершила побег, тебе удалось то, чего не смог ни я, ни даже Девятьсот Шестой... Ты ведь оказалась лучше него, смелей, ты сказала отцу то, что хотела сказать - а не то, чего требовали вожатые...
- Ты отдалась ей... И она тебя выпустила?
- Нет.
В доме напротив загораются окна второго этажа. Точно над миссией. Худой мужчина с баками и подстриженными усиками накрывает на стол.
- Если бы я ей просто дала, она бы отымела меня и нашему договору был бы конец. У них хорошие зарплаты и двадцатилетние контракты, зачем рисковать? Я начала играть - и выиграла. После звонка меня должны были отправить в училище для вожатых, но она положила меня в лазарет. Я ее терпела, а она думала, что у нас запретный роман. Она своим языком щели у меня в теле искала, а я своим - у нее в душе. У тебя бы так не вышло, - усмехается она. - Ты же в души не веришь.
- У нас это по-другому называлось.
- Видишь, какой ты брезгливый. Зато она придумала мне долгую тяжелую болезнь, боролась с ней, но я слабела с каждым днем, она не сумела справиться с кризисом, и в конце концов я умерла мучительной смертью. Бедняжка. Потом она вывезла мое тело для независимой экспертизы и доставила его прямо в Барсу. Тут у нас был последний раз. Она строила планы на то, как мы будем встречаться после, когда все уляжется, умоляла слать ей письма с чужого адреса. Я, конечно, не писала ей ни разу. Мне хватило и того года, что она меня пользовала. Мне просто нужно было выбраться и успеть найти отца.
Усатый мужчина в окне напротив расставляет подсвечники, подносит к фитилькам зажигалку. Совершает какие-то мановения руками, и в доме начинает играть музыка. Мы с Аннели следим за ним сквозь прозрачные занавески. Видим, как открывается входная дверь, как на пороге появляется ее мать. Чуть не падая от усталости, она выжимает из себя улыбку - он подает ей стакан воды, помогает раздеться.
У нас в комнате горит крошечный бордельный ночничок - он не выдает нас; ни Марго, ни ее бойфренд не замечают, что мы за ними наблюдаем.
- Иногда мне снится, что он сидит в ногах моей кровати и рассказывает мне эту сказку, помнишь? И вот во сне я ее вспоминаю - всю, до конца. Открываю глаза - его нет. Иногда зову, хотя понимаю, что это сон был. Зачем зову? Я ведь знаю, чем все кончилось: отца хватил инсульт, и рядом, видно, никого не было, чтобы ему помочь. А мама нашла себе нового отличного Джеймса, который готовит и трахается лучше прежнего.
- Хочешь, пойдем к ним? - говорю я. - Скажи ей это все. Она ведь жива. Ты можешь ей все это сказать.
- Зачем? Испортить вечер этим голубкам?
Как ей объяснить?
- Это дорогого стоит, когда можешь просто сказать все. Когда она жива и ей есть, что ответить. Когда ты не сам с собой разговариваешь.
Аннели щурится.
- А если твоя мать тоже не умерла? - говорит она.
- Как? Каким образом?!
- Сколько тебе было? Два года?
- Три.
Марго исчезает на несколько минут - Джеймс сооружает что-то на кухне. Потом она возвращается, в халате и в полотенце, тюрбаном обвернутом вокруг головы. Аннели смолкает, глаз не может с нее спустить. Могу вообразить: если бы я мог вот так из окна напротив, невидимый, смотреть на свою мать...
Потом она расклеивает губы:
- А если ты не помнишь чего-то? Я, например, забыла, что сидела на руках у мамы, когда Бессмертные пришли. Не знала всей этой истории с тем, как она два года ждала места в своей клинике. Не понимала, что она все же могла сделать аборт, если бы совсем меня не хотела.
Я ничего не забыл?
Вот комикс: чайный цветок, робот, распятие, дверь: «Бум-бум-бум», женское лицо: «Не бойся, бла-бла-бла», вихрь, штурм, маски, «Кто его отец?», «Не ваше дело!», «Пойдешь с нами!», но нигде нет картинки, на которой мою мать берут за руку, приставляют к ее запястью инъектор, делают укол.
«Не ваше дело!» не обязательно значит «Я не знаю!».
Может, она знала? Может, указала на него?
Может, это не она должна была звонить мне в интернат - а отец?!
Усатый Джеймс отодвигает стул, помогает Марго усесться, склоняется над ней, обнимает ее сзади. Шепчет ей что-то в ухо - она смеется и отталкивает его.
- Пойдем к ним? - неожиданно просит Аннели.
- Давай.
Мы закрывает комнату, переходим улицу, поднимаемся по рассыпающейся лестнице, звоним. Открывает усатый, рука за спиной - но потом появляется Марго, успокаивает его. Стол накрыт на двоих, но Джеймс мигом сервирует на нас. Ему очень приятно познакомиться с дочерью Марго, он столько о ней слышал. У них на двоих отдельная комната с уборной, но площадь, разумеется, принадлежит миссии - у них самих никогда не хватило бы денег, он тоже в Красном Кресте, зарплаты хватает точно на еду и одежду. Низко над столом висит большая лампа под терракотовым тканевым абажуром, стены выкрашены в темно-синий, из прочей мебели имеется кровать на полтора места. Аннели смотрит на него волком; он хвалит ее прическу. Она просит у матери коммуникатор, но там опять ничего. На ужин креветки с водорослями, но наши животы уже набиты холодной шавермой из человечины. Джеймс, кажется, неплохой парень, но это уже никого не заботит. Аннели не отвечает на его вопросы, не смеется его милым шуткам. Марго молчит, бросает на своего бойфренда виноватые взгляды: пригласила на ужин монстра, вот неловкость. Тот, чтобы разрядить обстановку, достает откуда-то бутылку вина - которое, уверен, они берегли на более праздничный случай.
Тут все и случается.
Он наливает нам, себе, но Марго обходит стороной.
- Не пьешь? - вскидывает подбородок Аннели.
- Ты ей не сказала? - оборачивается к ее матери Джеймс.
Та еле заметно качает головой; принимается мазать пасту на гренку. Уж если я все это вижу, то Аннели и подавно.
- Не сказала что?
Джеймс растерянно мямлит что-то неразборчивое.
- Не сказала - что? Ты поэтому не куришь, да?
- Я, разумеется, собиралась, но, учитывая твою ситуацию... - сухо произносит Марго.
- Ты залетела! От него! - Аннели тычет пальцем в Джеймса. - От него!
- Я знала, что ты расстроишься. Поэтому...
- Уж точно не стану тебя поздравлять!
- Аннели... Успокойся, прошу тебя.
Черта с два.
- Ты беременна, и у тебя будет ребенок! Для меня ты ничего не можешь сделать, а сама...
- Причем тут это?!
- Ты! Зачем он тебе?!
- Мы с твоей матерью давно хотели... - вступается усатый.
- Вы с моей матерью! Да она как паучиха! Ты ее оплодотворишь, а она тебя сожрет!
- Прекрати! Не смей так со мной разговаривать!
- Ты в нашем доме, Аннели... Так что...
- В вашем доме! Это нечестно, ясно?! Нечестно!
- Мы не будем говорить об этом при посторонних...
- У нее опять будут дети, а из меня, значит, надо выскоблить всю требуху, так?
- Что тебе от меня надо?!
- Зачем тебе еще один ребенок, если ты не знаешь, что делать с первым?!
- Не моя вина, что ты такой выросла...
- Не твоя?! А чья?! Моя?! Моя вина, что меня держали дома до четырех лет? Что меня запихнули в интернат? Ты знаешь, как там весело?! Это я ведь сама туда попросилась!
- Потому что твой отец...
- Мой отец умер, ма! Умер! Ты его отправила на свалку, и он там околел! И тебя, Джеймс, она туда же спишет! Потому что когда к вам придут Бессмертные, она тобой прикроется! Она не любит тебя! Она не умеет это!
- Это ложь! Ты лжешь! Маленькая злобная сучка!
- Я лгу? А где он тогда? Где папа?!
- Ты его не знала! Я не хочу тебе мешать, я уйду, чтобы не портить тебе жизнь! Его нельзя было переупрямить! Все всегда получалось так, как он хотел, сколько я не сопротивлялась! Хочу ребенка! Я говорила - нет, я мечтаю о этой работе, о карьере! О большом доме! О нормальном обществе! Он - со своей Барселоной! Благотворительностью! Социальной ответственностью! И что?! Ладно! Девять месяцев жить в одной комнате, чтобы никто не увидел мой живот! Работа, моя работа - чудо, освободилось место! Тряслась от страха, что кто-то поймет, кто-то узнает, а он все про свою Барселону! Он сам полез вперед, чтобы его укололи! Почему я виновата?! Все делала, как он говорил! Не любила его?! Зачем тогда?!
Они стоят друг против друга; Марго пошла пятнами и будто выросла, будто на ней лопнула ее красивая чистая кожа, Аннели трясет.
- Брось! Он ушел, а ты и рада была! Ты его не держала! Меня забрали, а ты и счастлива! Чтобы ты могла жить так, как хочешь!
- Где я сейчас?! Где?! На Дне! Где мое светское общество?! Где мой большой дом?! Где мой муж?! Где моя жизнь?! Я до сих пор не свою жизнь живу, а его!
Джеймс, весь белый, сидит за столом.
- Ему думаешь, от этого легче сейчас?!
- А что я могу сделать? Что я еще могу сделать?! Шестнадцать лет прошло! Шестнадцать! Я торчу в этой дыре, я помогаю людям, я делаю так, как хотел он! Я всегда делаю так, как хотел он! Тысяча женщин в год, тысяча детей! Чего ты еще от меня хочешь?!
- Любимая, тебе нельзя так волноваться... - бормочет Джеймс. - Вам пора.
- Ты мне никто, ясно? - чеканит Аннели. - И не смей мне указывать.
- Чего ты от меня хочешь?! - Марго срывается, дает петуха, в глазах дрожит вода. - Чего?! Чтобы это я тогда засучила рукав, а не твой отец?!
- Да!
- Думаешь, я об этом не думаю?! Я жалею уже, что не сделала это! Жалею! Но прошлого не воротишь! Ты не понимаешь? Все случилось так, как случилось! Он сделал свой выбор, а я свой, и мне теперь с этим жить!
- Ты врешь. Ты врешь.
- Жалею!
- Ты жалеешь? Так зачем ты снова все это повторяешь?! Вы задекларировали беременность?
Марго затыкается; Джеймс кашляет, утирает свои усы, поднимается.
- Мы решили с этим не спешить. Сюда ведь Бессмертные не лезут, так что...
- Почему я не имею права на второй шанс? Почему не имею права сделать все правильно? - по слову выпускает из себя Марго. - Я шестнадцать лет не жила. Теперь я хочу ребенка - я хочу, а не он. Понятно? Я хочу почувствовать себя женщиной! Живой себя почувствовать!
Аннели кивает. Кивает. Кривится.
- Так сделай все правильно! Возьми на себя ответственность! Задекларируй ребенка! Чтобы его не отправили в интернат! Запиши его на себя! Хватит жрать мужиков! Заплати сама!
- Я бы сделала! Но это Барселона, и...
- И сюда Бессмертные не лезут, так? Так что тебе опять все сойдет с рук?!
- Надо было, чтобы тогда меня укололи... Пусть бы укололи, пусть... - Марго всхлипывает, ее голос скрипит.
- Знаешь, что? Вот тебе твой второй шанс. Я привела тебе Бессмертного, ма. Специально. Как ты хотела. Ян... Ян! У тебя все с собой? Ваши штучки?
Рюкзак у меня в ногах. Сканер, шокер, контейнер с инъектором... Все наши штучки.
- Аннели... - начинаю я.
- Это как?! Это... - Джеймс вскакивает. - На помощь! Здесь...
А вот это уже моя сфера компетенции. Мышцы все делают сами. Рука в рюкзак, шокер включен, ладонью зажимаю ему пасть, усы щекочут, контактом в шею. Ззз. И он садится на пол. Я зашториваю окно. Внутри потягивается предвкушение, мне волнительно и противно. Может быть, я соскучился по своей работе.
- Аннели, - у Марго сел голос. - Дочка.
- Что же ты? А? Что?! - кричит Аннели. - Что ты, ма? Ян... Нечего ждать. Мама хочет, чтобы все наконец было правильно!
Я достаю из рюкзака и раскладываю на столе: сканер, контейнер, маску. Отпираю коробочку - инъектор на месте, заряд полный.
Перед глазами все едет. Руки как сквозь воду вижу и продвигаю.
Что со мной? Такой же случай, как и все остальные. Добровольный вызов. Декларация беременности. Занос в базу. Инъекция. Оправдание того, что я делал в Барселоне. Точка в истории Аннели и ее матери. Все нормально. Это же ее мать, а не моя.
- Ты правда привела ко мне палача? Сюда?
Кровь уходит из лица Марго, из ее рук, и силы с ней.
- Его зовут Ян, мам. Он мой друг.
Бесцветная, Марго опускается на стул.
- Ладно, - говорит она. - Давай.
Я сажусь рядом с ней.
- Закатайте рукав, пожалуйста. Мне нужно ваше запястье.
Приставляю к коже сканер: динь-дилинь!
- Марго Валлин 14О. Рожденные дети: Аннели Валлин 21Р. Прочих беременностей не зарегистрировано.
Марго не смотрит на меня, на мои инструменты, я просто приложение к ее дочери, конец той истории двадцатипятилетней давности. А я тяну. После того, как я сделаю ей анализ гормонов, ее беременность будет в базе. И тогда уже не Аннели решать, казнить свою мать или миловать.
- Давай, - повторяет Марго. - Пускай. Я правда этого хочу. Ты тогда была права. Когда ты меня нашла в первый раз. Чужие дети в чужих бабах не имеют отношения к тебе и к твоему отцу. Это не помогает.
- Ничто не помогает, ма.
- Ну так колите. Может, отпустит. Я хочу забыть это все, забыть и жить дальше без этого. Хотя бы десять лет без этого. Так жить, как будто в прошлый раз все получилось.
- Так не получится. Он не отец.
- Я знаю, что он не твой отец. И ребенок будет не такой, как ты. Я постараюсь все сделать по-другому на этот раз. Чтобы он вырос другим. Не такой, как ты. Ты права, чтобы все получилось правильно, надо все правильно начать. С самого начала. Я должна все сделать. Я.
Жду Аннели. Не вмешиваюсь. Если бы я нашел свою мать, я бы хотел, чтобы нам дали поговорить спокойно, прежде чем приговорить ее к смерти. Я вцепился в ее руку так, словно со скалы сорвусь, если отпущу.
- Почему вы тогда не сделали это? Почему не подали декларацию?
- Нам было страшно, - Марго не отводит глаз. - Страшно выбирать, кто из нас умрет через десять лет. Нужно было, чтобы кто-то выбрал за нас. Все получилось случайно. Ты сидела у меня на руках, отец сделал шаг вперед.
- Почему я сидела у тебя на руках? - тихо выговаривает Аннели.
- Не знаю, - Марго пожимает плечами. - Попросилась ко мне на руки, и я тебя взяла.
Аннели отворачивается.
- Это ведь вечер был? Я тогда тебя дождалась. Папа сказал, можно лечь попозже, чтобы тебя встретить. Я у двери дежурила. Все так. Я сама попросилась. Сейчас вот вспомнила. А потом в дверь снова позвонили.
- Десять вечера. Пятница.
Джеймс тихо мычит, подрыгивает ногами. Обеденный стол накрыт шприцом и маской - немедленной старостью и вечной юностью. Жду вердикта.
- Я не хочу, чтобы ты так все начинала заново, - неровно выдыхает Аннели. - Я не хочу, чтобы ты старела, ма. Не хочу, чтобы ты умирала. Не хочу.
Марго не отзывается. Жидкость течет из ее глаз; этим глазам ровно столько лет, сколько ей, никакие не двадцать два. Отнять у меня свою руку она не смеет.
- Пойдем, Ян. Тут все.
Я разжимаю затекшие пальцы - оставляю Марго синий браслет. Закрываю контейнер, неспешно убираю в рюкзак маску и сканер.
- До свидания.
- Аннели? Прости меня, Аннели? Прости меня? Аннели?
- Пока, ма.
Хлопаем дверью, спускаемся, ныряем в толпу.
- Надо напиться, - решает Аннели.
И мы берем по пластиковой бутылке с каким-то пойлом, и дуем его из трубочек прямо тут, толкаясь, отираясь о других бездельников, глазея по сторонам. Люди прижимают нас с Аннели друг к другу; но нам надо держаться друг друга, чтобы нас не растащили в разные стороны.
- Хорошо, что мы не сделали ей укол.
- Хорошо, - повторяет она за мной. - Только отмыться хочется. Купишь мне еще бутылку?
Мы тянем эту дрянь и идем, взявшись за руки, чтобы не потеряться. Дымят коптильни, жонглируют ножами факиры, усатые женщины продают жареных в синтетическом жире тараканов, пахнет жженым маслом, и рыбой, и чрезмерными восточными духами, уличные танцовщицы в целомудренных вуалях вихляют сальными бедрами, коричневыми голыми задницами, проповедники и муллы вербуют души, активисты Партии Жизни орут в мегафоны что-то о справедливости, перепачканные дети тащат за пальцы дымящих самокрутками дедов - покупать дрянные сладости, бренчат на мандолинах музыканты, мерцают разноцветные фонарики, и целуются взахлеб подростки, мешая пройти всем остальным.
- Что ты в меня вцепился? - она сжимает мои пальцы. - Вцепился и не отпустишь никак?
Я улыбаюсь и жму плечами; я просто иду и глазею по сторонам. Отчего-то мне удивительно спокойно и мирно, и наступающая на ноги голытьба не раздражает меня, и смрад от тысячи жаровен не мешает мне дышать.
Меняются вывески - арабская вязь уступает китайским иероглифам, русские буквы прореживают латиницу, поросшую какими-то хвостиками и точечками, из окон свисают флаги государств, находящихся с обратной стороны земного шара, или давно сгинувших, или никогда не существовавших.
- Сюда, - говорит Аннели. - Другого тут нет.
Поднимаю глаза: бани. Вход сделан с потугой на японский стиль, но внутри об этом забыто. Вал народа, и все смешано - мужчины и женщины вместе, старики и дети. Очередь огромная, но всасывается быстро. Аннели не глядит на меня, а я сам не могу понять, зачем она меня сюда привела.
Чтобы пройти, надо купить билетик на прозрачной пленке. Аннели еще берет набор - мочалка, мыло, бритва. Раздевалки общие: на дне не до церемоний. Она снимает с себя глупую одежду, которую я купил для нее в трейдомате, быстро и разом, обнажаясь не для меня, а для дела, деловито и дежурно. Смущения нет. Вокруг еще битком голых тел: сисястые бабы, седеющие мужики с набитыми животами, визжащая ребятня, вислозадые старики. Хорошо, есть запирающиеся шкафчики - можно оставить рюкзак. Сдираю прилипшую к коже футболку, скидываю ботинки, все остальное.
Аннели идет дальше, я за ней; синяки на ее лопатках и бедрах из фиолетовых медленно становятся желтыми, короста царапин отпала, оставив белые отметины, и волосы отросли и ложатся на плечи. От моего ли взгляда или от чужих - на ее спине ершатся мурашки; ямочки на поджатом заду такие, как у ребенка на щеках бывают. Внизу - темнота.
Внутри стены из кафеля и бетонный пол, густой пар застит картину. Тысяча душевых, все на открытом пространстве, отделены перегородками. Эти бани даже не дешевый эрзац наших великолепных купален, даже не на них пародия, а на притворяющиеся санитарными блоками газовые камеры каких-нибудь немецких концлагерей двадцатого века.
Шум, лязг тазов и голоса рикошетят от тысячи стен и стенок, от низкого блестящего потолка, сочащегося холодным конденсатом; посреди большого замутненного зала стоят отлитые из бетоны скамьи, на них - лохани, в мыльной воде плещутся дети, над ними нависают груди - тяжелые или выдавленные - матерей. Вот Содом - но не изысканный, как наш, а бытовой, вынужденный; тут свою наготу не дарят другим, а притаскивают с собой и вываливают равнодушно - просто потому что девать ее больше некуда.
Аннели занимает одну душевую, я - другую, за стеной - и не вижу ее. Просто откручиваю вентили, становлюсь под водопад. Вода твердая, пахнет странно, и плечи мои сечет нещадно, не жалея. Мне тоже это надо: отмыться. Хорошо бы и брюхо себе вскрыть, достать по очереди все внутренности, перемыть этим серым злым мылом, и сложить обратно.
- Ян. Можно тебя?
Заглядываю.
Аннели стоит - волосы в пене, тушь смыта, глаза чистые. Она без краски другая - свежей, юнее - и как бы более простая; но и более подлинная.
- Заходи.
Делаю шаг. До нее теперь - наклон. Без обуви роста мы такого, что если я ее обниму, мой подбородок ляжет ровно ей на макушку. Ее грудь точно уместится в мои ладони. Сосцы топорщатся, собрались морщинками от влаги. Живот не такой, как мне снился: нет этого жесткого каркаса, сетки мышц. Ребра сходятся стрельчатой аркой; под ней - провал, тень - и все мягко, уязвимо. Пупок плоский, ввернутый, девственный. Спускаться еще дальше у нее на глазах мне стыдно: кровь моя и без того вся схлынула вниз.
- Поможешь мне?
Она дает мне бритву из набора.
- Хочу поменять стрижку.
Тут уж не удерживаюсь.
- Идиот, - улыбается мне она почти нежно.
И склоняет свою голову, белую от пены.
- Как?
- Наголо.
- Обрить тебя наголо? - повторяю я. - Но у тебя все красиво... Зачем?
- Больше не хочу быть такой.
Я еще пытаюсь понять ее, и не приступаю, пока не всплывает в голове тот ее сон, когда я запер у себя дома. Пока не вспоминаю, кому предназначалась эта ее косая челка, эти волосы до плеч.
И тогда я укладываю Аннели в левую ладонь, откидываю волосы с ее лба и глажу их корни бритвой. Падают в слив клочки - мокрая жалкая шерсть, косая бунтарская челка, мыльные потоки смывают рисунок, который делал Аннели ею самой. Она жмурится, чтобы мыло не попало в глаза, фыркает, когда вода льет в ноздри.
Мне надо поворачивать ее голову удобнее - и ее заиндевевшие мышцы не сразу теплеют, не сразу поддаются. Но вот она начинает прислушиваться к моим движениям чутче, я разминаю ее недоверие, как пластилин; и в том, как ее шея отзывается на мановения моих пальцев, больше секса, чем в любом из моих оплаченных актов.
За нашими спинами - тьма людей, старых и молодых, мужчин и женщин, которые шляются мимо, потрясая своими грудями и причиндалами, отскребают с себя вековую грязь, приостанавливаются, чтобы, почесываясь, посмотреть на нас сквозь клубы пара, хмыкнуть и почапать себе дальше. Плевать: в этом мире набилось столько народу, что вдвоем не остаться нигде. И все равно тут, под чужими взглядами, со мной творится самая большая близость из всех, что я переживал с женщинами.
У меня сперва выходит уродство, бритвенные просеки напоминают следы лишая, недобритые клочья торчат, как на больной собаке, но она терпит мою неловкость, неумелость, и из линяющего уродства появляется античное изящество, неподдельная, изначальная красота, точнее которой человеку не создать.
Я обрисовываю бритвой чистые линии ее черепа - высекаю их из пены; и из пены выходит Аннели новая, от которой отсечено все лишнее, все чужое, настоящая Аннели, уже гибкая, уже послушная моим рукам.
Поворачиваю Аннели спиной к себе. Мылю ей голову снова. Она теряет равновесие, прикасается ко мне на мгновение всей своей неверной геометрией, и моя рука срывается; порез. Но даже тогда Аннели не отталкивает меня.
- Аккуратнее со мной, - всего и шепчет она.
Все; теперь она совершенна.
- Уйди, - велит она. - Отдай бритву и уйди.
И я слушаюсь. Уединяюсь в своей кабине и только зыркаю свирепо на зевак, которые притормаживают против моей Афродиты.
- Я больше не буду тебя ждать, - слышу я обращенное в пустоту. - Я больше ничего не буду ждать.
Потом она забирает меня и ведет через раздевалку наверх; оказывается, там - комнаты отдыха с поминутной оплатой. Внутри, разумеется, все аскетично как в борделе. Но мы прихватываем с собой бутылку абсента и мешаем его с газировкой, и комната дает нам ровно то, что нужно: быть вдвоем.
Она разоблачается сразу. Раздевает меня. Мы остаемся на простынях - сидим друг напротив друга, она разглядывает меня - бесстыдно, внимательно, и тогда я начинаю так же смотреть на нее.
- Нам нельзя. Тебе нельзя.
Тогда Аннели протягивается ко мне, берет меня за шею и молча притягивает к себе, пригибает вниз, вжимает меня между своих ног. Там она тоже голая, гладкая, чистая. Я ухожу в нее, пробую на вкус ее сок, целую самую мякоть; она вдыхает глубоко, тяжело. Аннели кислит у меня на языке, как контакты батарейки, и от ее слабого тока горит мой ум, обугливаются мои нервы.
- Вот теперь... Теперь...
Поспев, она отталкивает мое лицо, зовет мои губы к своим, ногтями врезается в мои ягодицы, тянется самым жарким ко мне, подает мне себя, умоляет, не утерпев, пока я найду ее, обнимает меня прохладными пальцами - и заправляет в себя, и просит, и сама задает такт: так, так, так, сильней, сильней, сильней, да, да, да, быстрей, быстрей, быстрей, быстрей, жестче, не жалей меня, рви, рви, еще, еще, мне не нужна твоя гребаная нежность, твоя гребаная пощада, сильней, давай, ну, давай, ну, ты же хотел этого, ты же хотел этого еще тогда, со всеми, с ними, давай, давай, получай, скотина, ублюдок, на, на, на!!!
Я хочу вырваться - но она не отпускает, и я не пойму - плачет она или стонет, стонет она от счастья или от боли, я рву ее - или она меня пожирает, слияние это или схватка. И слезы, и кровь, и пот, и сок - все соленое, все кислое. Она хватается за меня и сама скользит по мне - еще, еще, еще! - бьется о мои кости своими, душит меня, пихает мне пальцы в рот, вцепляется в волосы, материт меня, лижет мой лоб, мои закрытые глаза, кричит, и я тону в ней окончательно, плавлюсь в ней, и разрываюсь, разрываюсь на части.
Меня не хватает на нее чуть; и тогда она садится мне на лицо всей моей, всей своей грязью, и расползается на нем, и елозит, и душит меня, пока я не освобождаю ее тоже. И только так между нами восстанавливается тонкий, как волоски на ее руке, мир.

- И что это за место? - я настороженно озираюсь по сторонам.
- Дворец кино! - Базиль берется за самый низ уходящей под далекий потолок портьеры, тянет ее.
Занавес сопротивляется, угрожающе трещит, сыплет нам на головы килограммы пыли, но Базиль упирается, уводит его нижний конец далеко, к самому краю сцены, пока наконец вверху что-то не поддается со скрипом, и кулиса сразу отъезжает в сторону, обнажая половину грязно-белого киноэкрана.
- Думаю, нам этого хватит! - кричит мне Базиль.
- Для чего?
Дворец разорен: кресла выломаны и унесены, паркет изодран, сквозь темно-синие стены проросли корневища огромных трещин, а в самой середине огромного кинозала на полу лежит рухнувшая люстра - бронзовая, громадная, многотонная, и все внизу теперь в хрустальных брызгах.
За стенами слышно низкое гудение и мерный грохот, от которого целый мир ходит ходуном. Землю сверлят насквозь и в высверленное дупло забивают костыль с Австралию толщиной, вот на что это похоже. Старое здание не придется даже сносить: вот-вот оно само распадется, расшатанное могучими вибрациями.
- Это же стройплощадка! - говорю я Базилю. - За коим хером мы сюда полезли? Сюда нельзя входить!
- Как нельзя, если мы тут? - он подходит ко мне, улыбка до ушей. - Через месяц тут будет фундамент башни «Новый Эверест», вот тогда сюда точно будет не попасть. А пока... - Базиль, гостеприимный хозяин, обводит свой дворец рукой.
- Слушай! Зря ты так с нашими, - возвращаюсь я к недоговоренному. - Мы же одно звено. Тебя зовут вместе со всеми, оттянуться после работы, мозги прочистить, а ты берешь и...
- Это может показаться странным, - он строит рожу, - но мне не хочется глядеть, как Триста Десятый пользует наших суровых штатных проституток. Во-первых, он это делает уныло до невозможности, просто, чтобы все знали, что у него с половой жизнью все как положено. Во-вторых, весь обзор все равно будет загораживать Пятьсот Восемьдесят Четвертый, которого это зрелище возбуждает по долгу службы. А мне, знаешь, любоваться на то, как этот ушастый себя ласкает, глядя на начальничка...
- Хорош! - обрываю его я. - Ты же не обязан делать это с ними вместе, и там все в порядке с выбором! Там эта есть... Берта-акробатка. Джейн еще хорошая, с третьим стоячим.
- Очень аппетитно рассказываешь! - Базиль сует мне под нос кулак с оттопыренным большим пальцем. - Сразу видать мастера!
- Ты не понимаешь, что это подозрительно? - я отталкиваю его руку. - Что они все спрашивают меня? Мы же звено! Нам нечего друг от друга скрывать!
- Мне - есть. У меня маленькая пиписька. Я ее стесняюсь. И я не хочу перебивать ее видом аппетит Сто Шестьдесят Третьему, когда он выкручивает руки какой-нибудь девчонке с замазанными синяками, или Пятьсот Восемьдесят Четвертому, который дрочит на зажмурившегося Эла, притворяясь, что на самом деле его интересует баба и эти ее жировые мешочки, как вы их там называете... Ах да, вспомнил, титьки.
- Да пошел ты! Меня самого сейчас стошнит уже...
Он смеется, и я смеюсь.
- Нет, правда, что за маразм - ходить к шлюхам строем и трахаться на раз-два, как будто на плацу отжимаешься? Задумайся! Это в Кодексе написано, что звеньевой должен протоколировать каждый мой оргазм?
- Они говорят, у тебя история.
- История?
- Что тебя видели с какой-то женщиной.
- А ты им скажи, что я хрупаю таблетки безмятежности на завтрак, обед и ужин. Для фигуры хорошо и в духе устава. Все, хватит нудить! Глянь-ка лучше, что я откопал!
Он выставляет на пол какое-то карманное устройство на треноге, нацеливает его, выискивает что-то в своем коммуникаторе...
- Алле - оп!
Белый конус выхватывает стоящую в воздухе пыль, а на грязном экране вдруг появляется цветное окно. Только еще мелькает заставка - а я уже все понял. Потому что я знаю наизусть каждый кадр.
- Откуда?..
Мне делается неловко, стыдно; я чувствую себя виноватым уже за то, что поплелся за ним сюда; зачем ему «Глухие»? Сегодня? Здесь? Со мной? Напомнить мне обо всем?
И все же я не двинусь с места. Я должен Девятьсот Шестому, и не раз. В моих щеках торчит тьма рыболовных крючков всех калибров, и лески от них обмотаны вокруг его пальцев.
Базиль не отвечает. Он по-турецки садится прямо на пол. Внимательно смотрит титры. Улыбается, оборачивается ко мне, хлопает по пыльному паркету рядом с собой.
- Садись давай! Кино же! Полная версия!
Он говорит «кино». Так, как оно называлось раньше. Так, как оно называлось, когда снимали этот фильм.
И вот... Дом, лужайка, кресла-коконы, медведь, велосипед, идеальная пара, образцовые родители. Сколько я их не видел? С тех самых пор, как...
- Пап! Па-па! Сгоняем на великах на станцию?
На экран заскакивает пятилетний аккуратист в шортах и рубашке-поло, волосы пострижены стильным каре, ухоженные руки на руле - ногти ровные и чистые. Меня передергивает.
- Что это еще за слащавый ссыкун?
- Ты тоже не так себе его представлял, а? - хмыкает Базиль. - Не переживай, его грохнут через пару минут.
- Мы за этим на стройплощадку полезли?
Базиль откликается не сразу.
- В том числе. Ладно, остановимся тут - жалко пацана.
Он ставит видео на паузу: нам выпадает кадр с видом из окна. Расчесанные холмы, часовни, виноградники, высокое небо, перья облаков.
Где-то снаружи с оглушительным воем раскручивается бур длиной с земную ось, погружается в зыбкую почву, на которой стоит старый дворец, и его стены прошибает конвульсия. Откалываются от потолка куски бетона, облетает штукатурка.
- Сейчас эта развалина рухнет! - кричу я ему.
- Не ссать! - командует Базиль. - На, дерни для храбрости!
И протягивает мне бутылку. Композитную, мягкую, черную. На этикетке - белые буквы: «КАРТЕЛЬ».
- Что это еще за отрава?
- Текила!
- Текила? Два часа дня!
- Да! Текила, парень! Текила в два часа дня!
Он приникает к горлышку, делает большой глоток и передает бутылку мне. Изучаю ее с недоверием: газированные коктейли, рисовое пиво - это я понимаю. Но текила?
Пробую осторожно. Кислая дрянь дерет язык и глотку, прогорклый привкус въедается в рецепторы. Текила окрашивает воздух, которым я дышу, коротко и зло дает мне по солнечному сплетению и еще по затылку наотмашь.
- Ну как?
- Гадость.
- Не будь таким педиком! - он забирает у меня бутылку, прикладывается к ней еще раз, потом возвращает ее мне. - Давай еще! Как ты еще почувствуешь, что живешь вообще, а?
Я пью снова - и во второй раз текила не становится ни на грамм лучше; то же дешевое пойло из трейдоматов - для тех, кому рисовое пиво кажется слишком ленивым.
Девятьсот Шестой устанавливает бутылку на пол и с колен обращается к ней, как к идолу.
- Мы в аквариумах существуем - и жрем планктон. В наших венах - черная рыбья кровь! - декламирует он. - Мы остыли давно. Без тебя мы не сможем ожить. Чтобы стать теплокровными снова - переливание нужно. И я переливаю - текилу.
Тут он падает перед черной дешевкой ниц.
- О текила! По глотке моей наждаком! Ты расплавленный камень-янтарь! Ты огонь кисло-желтый! Я молюсь, и ты слышишь молитвы мои. Был я дохлою рыбой, но с тобою я стал человеком!
- Что это за ересь? - фыркаю я. - Ну-ка дай глотнуть.
- Это поэзия! - Базиль оскорбляется. - Это мое признание в любви. Текилу любить мне не запретит никто.
- Клоун. Ни рифмы, ни ритма!
- Клоуны имеют право любить клоунесс, а те, что поотчаянней - замахиваются даже на воздушных гимнасток. Хотел бы я быть клоуном.
- Можешь хотеть, что угодно, только не вздумай говорить об этом при Триста Десятом или Девятисотом...
- Или Седьмом, или Двести Двадцатом, или Девятьсот Девяносто Девятом. Лучше всего, парень, говори обо всем сам с собой. Только, знаешь, вслух не надо, потому что мало ли...
Не дожидаясь, пока он прекратит разглагольствовать, я свергаю бутылку с ее пыльного пьедестала и пью.
- Сам знаю.
- Это как проверка
- А ведь мы с тобой славно их тогда надули, а? - уставившись в окно, за которым не наша с ним Тоскана, усмехается Базиль. - Сколько шуму было: испытание, испытание... Весь интернат тряслись.
Верно.
...Воет бур, уничтожая берлинский Дворец кино; через пару дней тут будет грандиозный котлован, в него установят опоры «Нового Эвереста», нальют озеро эластичного цемента. Но пока что все здесь: обнаженный наполовину тряпичный экран, уставшая бронзовая люстра, осколки хрусталя на покореженном паркете, стоп-кадр Тосканы и бутылка «Картеля» на нас двоих. Наше убежище.
- Ты не можешь обманывать их вечно, - говорю я Базилю.
- Не ной, - отвечает он мне. - Давай поровну допьем, тут всего ничего осталось.
И мы осушаем черную бутылку. Я уже не чувствую вкуса.
- Во-первых, можешь, - теперь возражает он мне. - Во-вторых, я и не собираюсь обманывать их вечно. Я вот подумываю в отставку уйти.
- С винта слетел?!
- В Кодексе сказано, что служба в Фаланге - дело добровольное. Каждый имеет право...
- Работа у якудза - дело добровольное! Ты слышал, чтобы хоть кого-нибудь отпускали?!
- Слушай, парень... Мне кажется, ты все это слишком всерьез воспринимаешь.
- Что? Что - это?!
- Все! Бессмертных, Фалангу, Партию...
- Если бы не Партия, перенаселение бы... Фаланга - единственный ее оплот. Все общество, вся идея вечной молодости... - белый шум перекрывает мои мысли: вот она, текила.
- Я же говорю, не надо к этому так серьезно относиться! Вечная молодость, перенаселение, вся эта пурга. Тебе-то на хрена вечная молодость?
- Это благо!
- Это бла-бла-благо. Хочешь трудиться акушером всю жизнь? Достойная мужика работенка, бабам аборты делать. Мечта, а не работа!
- Это не работа, а служба. Мы служим обществу. Слу-жим!
- Объездить мир. Воевать за латинских повстанцев, угнать одномоторный гидроплан, груженный оружием, вместе с любимой дочкой какого-нибудь диктатора, влюбиться в нее, бросить все и жить на острове в Тихом океане, где слыхом не слыхивали о перенаселении. Или осваивать вместе с китайскими чистильщиками радиоактивные джунгли Индии, отстреливать саблезубых тигров и спускать все свои сумасшедшие заработки на простую девчонку из Макао, которой врешь, что ты - иностранный принц! Или...
- Ты о чем вообще?
- У меня еще есть десятка три сценариев того, как тратить нашу молодость. Мы побыли уже акушерами, парень, может, хватит? Или тебе тут все на самом деле нравится? Как остальным ребятам?
- При чем тут - нравится или не нравится? У нас есть миссия!
- Да ну, брось! И какая?
- Мы защищаем право людей на вечную жизнь!
- Точно. Все время забываю. Отличная миссия.
Он берет бутылку и зашвыривает ее в глубину зала; чуть промахивается мимо упавшей люстры.
- И что же ты не уедешь?
- Не могу.
- Ты же только что сказал, что наша миссия это...
- У меня история.
- Какая еще история? - меня покачивает, я расставляю руки в стороны, будто канатоходец.
- С корреспондентом новостей.
- Что за бред?
- Она - корреспондент новостей. Ее зовут Кьяра. По-итальянски это значит - «светлая», - сообщает мне Базиль.
- Погоди! - я с трудом навожу на него указательный палец.
- То есть, репортером она была раньше. Сейчас ее вышвырнули с работы. Сказали, что она сдает. Морщины, вид усталый... Грудь не та.
- Ты что...
- Я ей твержу: нету морщин в мире лучше. Я обожаю морщины твои. Каждую. Все. И особенно эти - у глаз. И нет эшафота желанней, чем эта ложбина, между грудей твоих спелых. Для головы моей глупой она подходит как раз. Ты лишь позволь к ней мне губами прижаться - и дожидаться ножа. Если любовь - гильотина, пусть рубит меня. Если умру - значит, жил.
- Базиль! Базиль!
- А она мне: «Ну что ты за дурак такой?». Вот и вся история, парень.
- Заткнись, ясно? Я не хочу это знать. Это между тобой и этой... Зачем ты мне это рассказываешь?
- Ужасно тяжело это никому не рассказывать, вот почему. И кому мне рассказывать, если не тебе? - Базиль подбирает с пола пробку от бутылки, бросает ее в спроецированное окно. - Слушай, как думаешь, вдруг эти холмы так и стоят там, как стояли? Я бы скатался в наше общее детство, а? Вспомнил бы...
- Почему у нее морщины?
- У нее морщины и очаровательный сынишка трех лет от роду. Его зовут Чезаре. Я научил его называть меня «дядя Базиль», но пару раз он оговорился и сказал: «Папа». Вот конфуз был.
- Ты спишь с уколотой? Ты ее видел несколько раз? - меня тошнит от ужаса; он словно только что признался мне в том, что у него рак в последней стадии.
- Кьяра. Я ее люблю. Ты же никому не скажешь?
- Нет. Нет, конечно, нет! Но... Я не хочу это знать!
- Как-то сразу отлегло. Что тебе еще о ней рассказать? Кьяра любит длинные свободные платья - стесняется того, что полнеет. А у меня от ее живота, от бедер ее - голова кругом. И от ее историй - из Индии, из ПанАма, из Африки... Часами могу слушать.
- Они узнают. Они все равно обязательно узнают, - твержу я как заведенный. - Зачем ты это делаешь? Будет трибунал...
- Значит, жил, - улыбается он мне.
- Это не игра! Не шутка!
- Я хочу вас познакомить. Она просит. Я ей столько про тебя наболтал... А давай возьмем с тобой отгул - и рванем в эту Тоскану, а? А Кьяра нас там встретит. Хочешь, она прихватит с собой подружку? Знаешь, какие там кадры встречаются - в новостях...
- Ты самоубийца.
Базиль только жмет плечами и улыбается.
- Ты за этим меня сюда позвал?
- Нет. Просто выпить хотелось. У меня сегодня день рождения - ну и, как всегда, хандра.
Перевариваю.
- И сколько тебе лет?
- Двадцать восемь. Как тебе.
- Я не слежу.
- А я вот слежу. Теперь. Кьяра следит - и я слежу.
Это не укладывается в моей голове. Что я должен ему сказать? Посочувствовать? Пожать руку? Пообещать, что не перестану с ним встречаться? Что говорят смертельно больным? Что хотят услышать смертельно больные, когда сообщают друзьям о том, что им осталось чуть-чуть? Как там бывает в кино?
- Это все печально, конечно, - выдавливаю я.
- Ужасно, - кивает он. - Зато с ней я выяснил, что время состоит из минут. Нас-то учили все веками мерять... Понимаешь?
Он не хочет, чтобы я его жалел.
- Хотя как ты поймешь? Такое на словах не объяснишь. Это прожить надо.
Он сам меня жалеет - вижу это, слышу это.
А я сам вместо жалости вдруг чувствую - зависть. Такую же зависть, как та, что испытывали ко мне остальные в нашей десятке, когда я не прошел испытание.
Базиль поднимается, распрямляет спину, отряхивает брюки. Будто он знает, будто умеет что-то такое, что мне недоступно.
- Хотел выпить с тобой за себя, за именинника - а все уже кончилось! - вздыхает Девятьсот Шестой.
И я понимаю, что мне хочется снова приложиться к горлышку, и набрать в себя этой дряни, и передать ему, и привести себя к общему знаменателю с этим живым, настоящим человеком.
- Давай, может, на следующей неделе повторим? - слышу я себя.
Он улыбается мне, протягивает ладонь - мягкую, теплую.
- Замазано. Только текила с тебя.
- «Картель»? - на всякий случай спрашиваю я.
- «Картель» - надежная вещь. Бери «Картель», не ошибешься.
Грохот и вой снаружи стихают - как будто Дворец кино передумали сносить.
- Жалко его будет, - говорю я. - Дворец. Ничего не останется ведь. И не вернешься уже сюда.
- Он уступит место прекрасной башне на тысячу ярусов, - возражает Базиль. - Да и потом, считай, мы его только что увековечили: мы-то с тобой его будем помнить всегда, так? А ведь мы бессмертные.

Не знаю, утро сейчас или вечер. Оконные шторы задернуты, но за шторами - просто стена, дешевые обои. В темноте светятся красные цифры поминутного счетчика оплаты за комнату. В часы проведенное тут нами время он не переводит; показывает «1276»; потом последняя цифра с тихим щелчком меняется на «7». Тысяча двести семьдесят семь минут с Аннели, которые я взял у Барселоны в кредит. Сколько это? Скоро сутки, кажется.
Я швыряю в счетчик подушку. Подушка придавливает красный свет, затыкает и душит время. Вот так.
Становится темно и тихо. В соседних каморках никого - цены тут как в Европе, местной голытьбе такая любовь не по карману. А я могу себе позволить - и вряд ли можно придумать лучший способ растранжирить мое жалование.
- Мы не можем тут оставаться бесконечно, - втолковывает мне Аннели. - Почему ты меня не слушаешь?
- Иди сюда, - отвечаю я ей.
Аннели наощупь: сначала напружинена - ее тело спорит со мной; потом - когда я накрываю ее своими губами - смягчается, ее решимость встать, собраться, идти куда-то (Куда? Зачем?) проходит. Мои касания снимают спазм, она забывает, чего хотела только что и начинает желать того, чего хочу я. Биология тут не может ничего объяснить; дело, наверное, в физике: или микрогравитация, или магнетизм, или статическое электричество - притягивает мои колени к ее коленям, мое лоно к ее лону, мои ладони к ее ладоням. Нам надо касаться друг друга всем, и разорвать это прикосновение больно. Физика учит, если поднести атомы разных тел достаточно близко друг к другу, они могут вступить во взаимодействие, и два тела станут одним. Я ложусь на Аннели - губы к губам, бедра к бедрам, соски к соскам, и прошусь в нее.
Она открывается мне сразу сверху и снизу, мы замыкаемся друг на друга и образуем бесконечность. И опять все иначе - не так, как в штормовой первый раз, не так, как в нескончаемый и изнурительный второй, не так, как в неспешный, осторожный третий. Сейчас мы сочетаемся, сливаемся. В темноте нет очертаний, и нам остаются одни касания, скольжения, щекотка, поглаживания и нарастающий зуд плоти, слепые облизывания, царапание и укусы, трение и желанная боль. Лихорадка. Шепот - умоляющий, жалобный, подстегивающий. Нет ее и нет меня; мы кричим синхронно, мы дышим синхронно, наш пульс синхронизируется. Когда я делаю неловко и мы случайно распадаемся, Аннели паникует: «Нет-нет-нет-нет-нет!» - и сама скорее помогает мне вернуться в себя. Ее пальцы пытаются охватить мои ягодицы, вдавливают меня так глубоко, как я только могу, и держат там - «Останься!» - и, не позволяя мне больше шевелиться, она распластывается, истирается об меня, подмахивает по-женски неумело. Она думает, что так сможет быть ближе ко мне. Потом ей становится мало такого, она хочет сцепиться со мной еще жестче, еще надежнее и отчаянней; перехватывает меня ловчее, ее палец нащупывает струящийся потом желоб между двумя моими половинами, гладит сначала, и вдруг вонзается в меня; прямо внутрь; я дергаюсь - посаженный на крючок - но другой рукой Аннели обнимает мой затылок, прижимает мое лицо к своему с внезапной силой, и смеется сквозь стон. И чтобы наказать ее, я отвечаю ей тем же - но злее, настойчивей. Она неслышно вскрикивает. Хватаю ее обритую голову, сую ей пальцы в рот. И так, прорастая друг в друга корнями, лишенные уже подвижности, мы ерзаем, бьемся, раззуживаем друг друга. Аннели кончает первая - и ей уже не надо, любовная чесотка отступила, теперь она чувствует все чрезмерно - но я не оставлю ее, пока не получу своего. И вот я уже пытаю ее, пытаю - пока ее боль не сжигает наконец и меня.
Мы валяемся, контуженные или убитые, наши оторванные конечности разбросаны по черному полю, ночь наше одеяло. Шуршит кондиционер, пот стынет и холодит истончившуюся кожу, перещелкивание оплаченных минут моей жизни не слышно за атласной бордельной подушкой, я понимаю, что остановил время.
Потом Аннели берет меня за руку, и мы засыпаем, и нам снится, как мы опять и опять занимаемся любовью, упрямо и бесплодно пытаясь стать одним существом.
Будит меня пульс счетчика; уже сквозь веки я вижу зарево цифр. Открываю глаза против воли. Аннели сидит в постели, смотрит на меня. Ее силуэт вычерчен красным. Прошло еще черт знает сколько минут.
- Живот от голода сводит, - говорит она.
- Ладно, - я сдаюсь. - Пойдем прогуляемся.
Мы снова идем, взявшись за руки. Лавируем между телами - полуголыми и обернутыми во всевозможное тряпье, белыми, желтыми, черными.
Когда я только попал в Барселону, меня всюду преследовала вонь передержанного пота. Теперь она исчезла. Я понял, что у толпы есть свой особый аромат, настоянный на пряностях, маслах и человеческих испарениях. Он терпкий и сильный, острый и непривычный для меня: в Европе не принято пахнуть, но этот флер нельзя назвать неприятным или дурным. Он естественен - а значит, к нему привыкаешь. И я привыкаю быстро.
На ужин у нас пластиковое ведерко жареных креветок и пиво из водорослей.
- В Европе такие креветки целое состояние стоить будут! - Аннели неприлично чавкает, утирает текущий жир тыльной стороной ладони, улыбается.. - А тут гроши! По европейским меркам, конечно...
- У вас все такое дешевое, потому что все ворованное, - сдержанно объясняю я. - Живут на наши пособия, да еще и тащат все, до чего дотянутся!
- Так вам и надо, буржуям! Наобещали людям красивой жизни, а сами заперли их в отстойнике!
- Мы ничего не обещали.
- Конечно! Только и слышишь: самое гуманное государство, самое справедливое общество, бессмертие для каждого, счастье на входе! Не мудрено, что сюда со всего мира валом валят! Не врали бы, все эти люди сидели бы по своим домам!
- Ладно-ладно! Куда ты ведро забрала? Я тоже хочу!
В одну сторону через немыслимую давку протискивается китайское карнавальное шествие с огромным композитным драконом, который плывет над людьми, медленно поводя из стороны в сторону огромной раскрашенной башкой и мигая зенками-лампами, его сопровождает какая-то рвань, бьющая в гонги и литавры; в другую, навстречу карнавалу - продирается похоронная процессия: покойника, обернутого в белое покрывало, несут на носилках, за телом шагает мулла, завывающий что-то унылое, жутковатое, дальше - эскорт рыдающих женщин в бурках и немые насупленные бородачи в халатах.
Кажется, сейчас столкнутся две колонны - и случится взаимная аннигиляция; как они вообще могут сосуществовать тут, в одном измерении? Литавры перебивают муллу и бабские причитания, драконья пасть наползает на человека в тряпке, так и жду: сейчас пожрет его! - а скорбящие с кулаками набросятся на празднующих! - вот будет месиво... Но они мирно расходятся, дракон не притрагивается к мертвецу, гонги аранжируют пение муллы, китайцы кланяются арабам, и каждая процессия движется дальше - в противоположных направлениях, буравя себе дорогу сквозь народ, отогревая тех, кого только что остудил мертвец, и напоминая развеселившимся, чем все кончится.
- Пойдем на море! - зовет меня Аннели.
- На море?
- Конечно! Тут огромный порт, и набережная - знаешь, какая!
Мы выходим из ангара и поднимаемся, еле переводя дыхание, на двадцать какой-то ярус; старая Барселона отсюда не видна, убранная в металлический футляр. Тут только радужные столбы-цилиндры, показушная веселость безоблачной композитной Европы, маяк, на который тянутся потерпевшие кораблекрушение во всех океанах.
Хотя путь до порта неблизкий, нас так больше и не грабят.
- Надо держаться подальше от башен, - инструктирует меня Аннели. - А вообще хорошо знать, в каком районе кто заправляет. Где паки, где индусы, где русские, где китайцы, где сенегальцы... А еще лучше - их паханов по именам. Всегда можно договориться. Тут же нормальные люди живут, а не дикари какие-нибудь!
- Да тут у вас политика почище нашей, - говорю я ей. - Международные конфликты на каждом квадратном метре. Вавилон какой-то!
- Ты себе не представляешь! - подхватывает она. - Китайцы и индусы - ладно, но тут такие кварталы есть... Вон в той башне они провозгласили независимую Палестину, а в это, синей, есть ассирийский квартал. Слышал про Ассирию? Я вот ничего не знала про нее, пока случайно не заплутала там. Такой страны уже тысячи три лет на карте мира нету - только тут, в Барсе. Прямо под Советским Союзом находится, и над Российской Империей. Там по правительству в изгнании на этаж приходится. Один знакомый врал, что посольство Атлантиды видел. Заходил, ему даже визу сделали, и денег поменяли на какие-то фантики!
Креветки заканчиваются как раз к тому моменту, как мы добираемся до порта. Море выплескивается на нас: кругом обходим заслонявшую его ядрено-желтую башню, и вот оно, заполняет сразу половину мира. Запруженный променад с мириадами ларьков, торгующих кокаином, семечками, проститутками-транссексуалами, шашлыком, национальной одеждой и огнестрельным оружием, возносится на сотню метров над водной поверхностью. За ним - стена до небес, композитные утесы гигаполиса.
Странно видеть место, где земля заканчивается.
Я бывал на море раньше. Обычно оно походит на рисовые поля или на венецианские каналы - сплошь уставлено сельхозплатформами. Весь океан - один садок, в котором человечество разводит себе всяческую живность на прокорм: тут лосося, там моллюсков, здесь планктон.
Но сейчас передо мной открывается великая пустошь. Никто не станет строить тут морские платформы - местные банды разграбят любую ферму в первый же день. У берега копошатся еще промысловые суденышки и кишат рыбацкие лодки, но горизонт чист. В первый раз, глядя на море, я могу себе вообразить, что когда-то у Земли был край.
И воздух тут совсем другой.
Словно не воздух, а гелий. Набираешь им два шара в своей груди - и можно лететь.
Мы сгоняем с погнутой скамейки какую-то малолетнюю шпану и садимся лицом в ничто. Бриз гладит наши лица. Солнечные лучи плавят композит, из которого отлиты двести одинаковых башен нового города. И где-то в его подполье живет город старый, город, который...
- Ну и как тебе Барса? - щурится на солнце Аннели. - Сущий ад, а?
Обритая наголо, она кажется мне необычайно ранимой, хрупкой - и еще моей собственной; ведь это я сделал ее такой.
...который мог бы стать моим. Нашим.
Нет, мои мысли о том, чтобы получить работу в заповеднике Фьорентина, сделаться сторожем своих детских воспоминаний, затащить в этот чертов гербарий Аннели и в нерабочие часы парка играть с ней в Адама и Еву - мечты имбецила. Через день после неявки по вызову меня найдут и выдернут на трибунал Фаланги, и тогда...
Черный зал, круг масок, кастрация и измельчитель; я стану компостом, а мое место в звене займет стажер, его быстро всему научат. Базиль ведь стал компостом - и никто не сумел его спасти.
Но Барселона...
Если бы Базиль догадался тогда сбежать в Барселону!
Сюда не дотянутся Бессмертные. Здесь можно укрыться так, что нас никогда не найдут. Я жил в Европе, я привит от старости, и Аннели тоже. Ни старение, ни смерть нам не угроза. На первое время нашим домом могла бы стать квартира Раджа... А дальше - как знать? - не появится ли у нас настоящий дом и настоящая жизнь?
Барселона. Клоака. Карнавал. Бурление. Опасность. Жизнь.
Все, что я должен сделать - взять свой рюкзак с набором палача и зашвырнуть его прямо сейчас в море. Через несколько секунд он плюхнется в воду, приборы закоротит - и я больше не буду Семьсот Семнадцатым. Могу и взаправду стать Эженом, а могу и остаться Яном. Пусть это имя мною своровано, но ведь в Барселоне все ворованное. Тут я буду своим.
- Барса? - я пробую на вкус название нашего дома.
- Барса! - озорно глядит Аннели. - Что скажешь?
Свободная футболка трепещет на ветру, то прилипая и обрисовывая ее линии, то раздуваясь и забывая их. Аннели удрученно смотрит на свои перепачканные в масле руки.
- Слушай! У тебя же твоя форма с собой! Она ведь черная, так? На ней ничего не видно будет. Можно, я руки вытру? Один раз! Быстренько!
Она тянется к моему рюкзаку - я перехватываю ее запястье, отрицательно качаю головой. Она фыркает и отворачивается. Солнце заходит за облако. Мне неловко. Барселона - это ты, Аннели.
- В России есть одна странная болезнь. Горло от нее зарастает пленкой, и заболевший задыхается. Воздуха остается все меньше, пока он не умирает.
- Не переводи стрелки! - строго говорит мне она.
- Лечат они ее странной штуковиной, - продолжаю я. - Серебряной трубочкой. Пленка боится серебра. Врачеватель вставляет больному в горло маленькую серебряную трубочку, и тот дышит через нее, пока не одолеет болезнь.
Аннели не перебивает меня.
- Ты - моя серебряная трубочка. С тобой я начал дышать.
Она улыбается мне вполоборота, потом наклоняется и целует меня в губы.
А после вытирает свои руки о мои штаны.
- Ты поэт, а?
- Прости. Несу всякую ересь. Идио...
Но она целует меня снова.
- Поправляйся. Не хотелось бы, чтобы ты задохнулся.
- Как считаешь, могли бы мы пожить у Раджа? - я произношу это как бы в никуда, как бы в море.
- Ты что, дезертировать собрался?
Жму плечами.
- Ты не сможешь! - уверенно заявляет она.
- Почему это?
- Если ты свою форму даже испачкать боишься! - Аннели цыкает. - Думаешь, я дурочка? У тебя сейчас отгул, вот ты и размечтался. А вызовут тебя на службу, мигом возьмешь под козырек. Что, не так?
Не знаю. Не знаю, как.
- Я хочу быть с тобой.
- Детский сад, - она хлопает меня по плечу. - Ясли.
- Что?
- Ты глупый. Даже странно.
Я лезу в рюкзак и достаю оттуда свой балахон.
- На, - говорю я ей. - Вытри руки. Пожалуйста.
- Не надо жертв, - усмехается она. - Спрячь, пока тебе морду за него не начистили. Тут у людей на вашу форму аллергия.
- Я хочу остаться. В Барселоне. С тобой.
- Вот это - ересь так ересь!
- Мы можем пожить у Раджа, - твержу я. - Мы можем снять себе квартиру... Угол... Может, недалеко от твоей матери...
Она наполняет себя гелием. Зажмуривает глаза. Пресекает мое бормотание.
- Как твое полное имя?
- Ян.
- Полное. С идентификатором.
Мне трудно это дается. В концлагерных публичных банях я чувствовал себя менее голым, чем в ту минуту, когда мне приходится вслух - впервые за долгое время - назвать себя полностью. Но я должен перед ней обнажиться по-настоящему, иначе она не поверит мне, в меня. Это испытание.
- Ян. Нахтигаль. 2Т.
- Нах-те-галь? Н-А-Х-Т-Е-Г-А-Л-Ь?
- Через «и». НахтИгаль. «Соловей» по-немецки. И еще была такая нацистская дивизия. По распределению досталось, когда выпускался.
- Красота! Тебе очень идет! - Аннели спрыгивает со скамьи, сунув руки в карманы штанов, шагает куда-то.
- Куда ты? - мне приходится ее догонять.
- За мной должок, - откликается она. - Хочу вернуть тебе его.
Продираюсь за ней сквозь толпу грубо, нещадно - мне страшно ее потерять. Ловлю ее у коммуникационного терминала - ярко-зеленого, в толстенном антивандальном корпусе. Европа расставляла такие в образцово-показательных кукольных домиках, чтобы наиболее мозговитые дикари могли интегрироваться в общее информационное пространство и приобщаться к прекрасному. Обычный комм тут роскошь...
- Запрос на поиск членов семьи, - произносит Аннели.
- Что ты делаешь?
- Идентифицируйте себя, - требует терминал.
- Аннели Валлин 21Р, - четко произносит она, прежде чем я успеваю понять, что происходит.
- Принято. На чье имя вы хотите осуществить запрос?
- Поиск родителей. На имя Ян Нахтигаль 2Т.
- Зачем ты? Что ты делаешь?! - я хватаю ее за руку, отдергиваю от терминала; меня прошибает насквозь холодом, в глазах темнота, ухает сердце. - Зачем?! Я тебя не просил! И зачем ты назвалась?!
- Запрос выполняется.
- Ты же не можешь искать от своего имени. Тебе запрещено узнавать, что с твоими родителями. Я тебе помогаю.
- Для чего?! Я не хочу знать, что с ними! Их нет! Зачем ты подставляешься?! Они могут понять, что ты не умерла!
- Это Барселона! - Аннели строит мне гримасу. - Пусть попробуют меня отсюда выцарапать!
- Ян Нахтигаль 2Т, - говорит терминал. - Результаты поиска. Личность отца не установлена. Мать: Анна Нахтигаль 7K.
Я должен скомандовать «Отмена!» - но язык присох к гортани; эта чертова зеленая тумба, грубый идол вандалов, превратилась в подлинного оракула, Господь говорит со мной из груды композита... Мама?..
- Ошибка.
Экран мигает и гаснет, терминал перезагружается. А мои нейроны уже вросли в его микросхемы: и меня выбивает тоже. Парализованный, я ловлю ртом воздух.
- Сделай еще раз.
- Аннели Валлин 21Р. Запрос на поиск членов семьи. Ян Нахтигаль 2Т.
- Запрос выполняется... Ян Нахтигаль 2Т. Результаты поиска: личность отца не установлена. Мать: Анна Нахтигаль 7К... Ошибка.
И снова у него инсульт, и беспомощное моргание, и обнуление, и забытье.
- Я не понимаю. Я не понимаю! - я молочу по экрану кулаком, но терминал и рассчитан на таких животных, как я.
- Давай попробуем еще раз...
- Помолчи!
Она молчит; и тогда я слышу жужжание. Вибрацию. У меня в рюкзаке. Вызов.
Вызов. Черт с ним, кто бы там ни был! Идите в задницу! В задницу!
Заглядываю.
Эрих Шрейер. Лично. Зашвыриваю комм обратно. Стою перед онемевшим зеленым идолом, шея закупорена, голова сейчас лопнет, кулаки свело, костяшки ссажены, бум-бум-бум...
- Ян?
- Пойдем. Пойдем отсюда! - на прощание я пинаю терминал бутсой; он весит, как истуканы с острова Пасхи.
Мы идем, а комм продолжает звонить, звонить, жужжать у меня в рюкзаке, теребить меня, зудеть как насекомое, действовать мне на нервы. Нет, господин сенатор. Увольте. Чего бы вы от меня ни желали на сей раз...
Чего?
Вам же не могли так быстро доложить, что девчонка Рокаморы, которую я убил и пропустил через измельчитель, строчит запросы в базы данных из Барселоны? Не могли, а? Кто она, в конце-то концов? - просто досадный заусенец на одной из миллиона деталей безупречно работающего механизма, которым вы управляете! Это все я и моя паранойя - думать, что Аннели нужна кому-то еще, кроме меня...
Комм продолжает жужжать, назойливая дрянь.
- Смотри! - Аннели прикрывает глаза от солнца, указывает ввысь. - Да не там! Вон, за башнями! Выше!
Жирная черная точка. Еще одна. Еще. Еще. Далекий утробный вой.
- Что это?
- Турболеты. Транспортные.
Толстые сигары с крохотными крылышками. В городе такие редко увидишь. Не черные - темно-синие, с белыми цифрами на бортах. Известная расцветка.
- Отсюда не видно ничего. Давай поближе?
Они опускаются - один за одним - десять, двадцать - приземляются между пестрых металлических башен брюхастые тяжелые машины с маленькими крылышками, безглазые и толстокожие. Я их узнаю. Штурмовые группы полиции. Толпа - врассыпную.
- Все. Дальше не пойдем.
- Что они тут забыли?
Коммуникатор с перерезанными связками все еще юлит на дне моего рюкзака, никак не успокоится. Еле заметные вибрации расходятся по ткани, по моим тканям.
Отваливаются люки-трапы, родятся из беременных летучих тварей синие блестящие личинки - отсюда маленькие, становятся цепью, рисуют круг, потом двойной. Их сотни, может, вся тысяча.
Толпу намагничивает - заряженная страхом и любопытством, она сначала растекается в стороны, но после стабилизируется и начинает густеть. Эхо катится от эпицентра к окраинам, и всего через минуту доходит до нас:
- Полиция. Полиция. Полиция. Полиция.
- Что случилось? Что за операция? - спрашиваю я у него.
Эхо повторяет мой вопрос и, перекладывая с наречия на наречие, уносит его куда-то в самую гущу голов, чтобы через некоторое время вернуться с ответом:
- Говорят, президент ПанАма к нам летит. Мендес. С нашим, европейским вместе.
- Что? Зачем?
- Посмотри в новостях, - просит Аннели.
Я вынужден взять коммуникатор в руки и скинуть вызов Шрейера, чтобы прослушать последние известия.
«Пожелание посетить территорию Барселонского муниципалитета господин Мендес высказал в ходе переговоров с президентом Единой Европы Сальвадором Карвальо. Просьба была высказана в ответ на замечание президента Карвальо относительно гуманности мер пограничного контроля по периметру так называемой Стофутовой стены, которая отделяет ПанАмерику от южноамериканского континента...»
- Чего там толкуют? - озирается на меня копченый туарег с курчавой седой бородой.
- Он просто хочет ткнуть нас носом в наше собственное дерьмо. Дружественный визит, - объясняю я. - Карвальо попрекает его резней вдоль стены, а Мендес ему: слетаем-ка в Барселону, брат, и посмотрим, что творится у вас под носом.
- Ишь чего! Говорят, Мендес сейчас задаст нашему жару! - делится туарег со всеми, о кого трется.
- Это шанс! - Аннели, кажется, обрадована.
- Шанс?
- Что ты обычно видишь в новостях, когда речь идет о Барсе? Разборки, плантации псилоцибов, туннели контрабандистов, которые пытаются добраться до вашей драгоценной воды! А всего остального будто нет! У нас же страна поголовного счастья!
- И ты считаешь, сейчас специально для Мендеса все каналы метнутся сейчас расхваливать ваш блаженный оазис? Не смеши меня!
- Я считаю, Мендес может за один день изменить то, на что европейские старперы уже сто лет закрывают глаза! То, что нет никакой Единой Европы! Что есть тюряга для приговоренных, и есть ваш сраный Олимп. Что все это сморщенное равенство, которым они все время трясут перед камерами - полная херня! Вот в это их ткнуть надо, а не в то, что тут люди на красный свет улицу переходят!
- Ничего такого не будет, - уверенно говорю я. - Ему и шагу не дадут ступить. Гляди, сколько полиции.
Мы залезаем на нависающий над головами травелатор, втискиваемся между пакистанскими торговцами чем попало; мы тут как звери на водопое, не время вспоминать о нашей войне.
С травелатора на площадь двухсот башен вид лучше: синяя окружность раздается в стороны, соприкасается с человеческим роем и легко сминает, гонит его. В пустоту посреди садятся новые машины, сыплются наружу темно-синие пластиковые солдатики, строятся рядами, вливаются в цепь, и, прирастая новыми звеньями, она ширится и ширится.
- Все равно им не хватит сил, чтобы всю Барсу усмирить, - упрямится Аннели.
- Ты не знаешь Беринга.
Еще с десяток турболетов виснут над Барселоной. Громкоговорители увещевают горожан, просят их оставаться дома.
- Это и есть наш дом! - вопит кто-то из толпы. - Это вы проваливайте отсюда!
Эхо от воя турбин разливается по городу мечты, затапливает его, и изо всех щелей наружу лезут смурные обитатели нарядных кукольных небоскребов. Грязные ручьи подпитывают бурое море, в середине которого - окантованный синим клочок суши.
Но жители трущоб поднимаются сюда не за тем, чтобы схлестнуться с полицией; тот, что кричал, пока в одиночестве. Они выходят к молчаливым полицейским в пластиковых доспехах, как индейцы выходили к закованным в кирасы конкистадорам, высадившимся с могучих галеонов - из любопытства.
Парят над толпой телевизионные дроны, снуют позади двойного кольца репортеры, не отваживаясь пойти в народ и снимая его из-за синих широких спин, круглых тусклых шлемов.
- Вон! Вон летит! - всколыхивается море, идет волна поднятых рук.
И из-за искрящихся башен выплывает величавое белое судно, эскортируемое маневренными малыми турболетами.
- Едрить! - восхищенно шепчут люди на трех сотнях языков.
Еще бы. Такие важные птицы тут раньше не показывались.
Белый воздушный корабль застывает в небе, а потом неспешно снижается, вставая точно посередине приготовленной для него площадки. Распахиваются двери, выдвигается трап, и крошечный президент ПанАма машет рукой-ниточкой бурому настороженному морю. Даже охраны вокруг не видно - только журналисты, журналисты, журналисты.
Следом появляется на трапе еще одна фигурка - наверное, наш Карвальо.
Суетятся на земле помощники, оператор поднимается по трапу вверх, наводит камеру на Мендеса - и внезапно над оцепленной полицией площадью возникает его проекция, сотканная из воздуха и лазерных лучей. Огромный трехмерный бюст - голова и плечи. Мендес улыбается ослепительно и грохочет из зависших над толпой громкоговорителей:
- Друзья! Спасибо, что позволили мне заскочить к вам в гости!
Паки переглядываются, скребут щетину и поправляют свисающие с ремней кривые ножи.
- Когда мои европейские друзья приглашают меня к себе, я обычно вижу только Лондон или Париж. Но я любопытный и непоседливый человек. Давайте посмотрим что-нибудь новенькое, попросил я их. Давайте заглянем в Барселону! Но почему-то мой друг Сальвадор стал меня отговаривать. В Барселоне нечего делать, сказал он мне. Вы с этим согласны?
- Хитрожопая тварюга этот Карвальо! - бухтит тот, что в чалме.
- А я хотел побывать тут. Познакомиться с вами. Так что, если вы думаете, что я так и буду торчать тут, на трапе, вы меня плохо знаете! - и Мендес начинает спускаться по ступеням вниз.
- Отважный человек, сука, - бурчит позади меня одноглазый пак в чалме и с оттопыренным карманом.
Вторая фигура приклеена к трапу: Карвальо не торопится к тиграм в клетку.
Камеры переключаются, чтобы удержать в кадре идущего к людям президента. Добравшись до земли, Мендес - вот номер! - действительно идет к оборонным линиям полиции. Огромные негры в черных костюмах и солнцезащитных очках берут его в кольцо - и вместе они прорывают полицейское оцепление. Журналисты, преодолевая ужас, лезут за ним. Чудо: человеческое море расступается перед сумасбродом, и он, как Моисей, ступает посуху.
- Вы, наверное, знаете, что мы с моим другом Сальвадором придерживаемся разных мнений о том, как быть с бессмертием. Я - республиканец, старый консерватор. Бессмертие, спросите вы меня? Прекрасная штука! Но разве есть что-то важней семьи? Любви к детям? Возможности вырастить их, научить всему, качать на коленях? Уважения к родителям, которые произвели вас на свет?
Толпа невнятно рокочет; а я слушаю Мендеса вполуха, голова забита другим. Я хочу найти еще один информационный терминал. Найти и отправить новый запрос о судьбе и местонахождении Анны Нахтигаль 7К. Перебрать сто тысяч гребаных зеленых терминалов, пока не найду один работающий.
- Человек одинок! - произносит Мендес. - И нет ничего хуже одиночества, вот что думаем мы в Панамерике. А кто может быть ближе нам, чем наши родители и дети, братья и сестры? Только с ними нам по-настоящему хорошо. С ними и с любимыми женами и мужьями. Все говорят, политики пудрят простым людям мозги - но я сам простой человек и по-настоящему верю только в такие вот простые вещи. Да! Мне легко жить, потому что я верю в понятные вещи. Но Панамерика - страна многих мнений. Мы свободные люди и нас учат уважать людей, которые думают не так, как мы!
Весть о визите самого Мендеса, верно, достала уже до самых дальних концов и самых темных углов обеих Барселон - и внутренней, и наружной. Столпотворение невероятное - ни конца, ни края не видно. Люди молчат, прислушиваются.
- Да, бессмертие у нас стоит денег. Да, не все могут себе позволить его. Это правда. Панамерика тоже перенаселена. Но наша страна - это не страна всеобщего равенства, это страна равных возможностей. Каждый может заработать на квоту.
Вдруг объемная проекция, огромная реплика выступающего президента, рябит и моргает; сквозь нее на мгновенье проступает что-то другое - но тут же возвращается лик Мендеса. Сам оратор, похоже, вообще ничего не замечает.
- Но тут, в Европе, нашу систему называют грабительской. Да, мой друг Сальвадор так говорит! И я не спорю: нас учили уважать другие мнения. Сальвадор говорит, европейская система гораздо справедливей, потому что она основана на настоящем равенстве. У нас все равны, говорит Сальвадор, и каждый рождается с правом на бессмертие!
Аннели ерзает. Народ волнуется: смутный гомон перерастает в гул. Слова Мендеса переводят на три сотни языков, сосед объясняет соседу, и становится душно, как перед грозой. Кожей чувствую накапливающееся в атмосфере электричество, и мне чудятся грядущие разряды. Но Мендес, буревестник, живет ими.
- У вас в Барселоне живут простые люди. Такие же, как я сам! Люди, которые верят в простые, понятные вещи. Я уважаю вас. Вы выбираете настоящее равенство. Вы выбираете бессмертие. У вас есть это право, и вы счастливые люди! Так ведь, Сальвадор?
Наконец я понимаю, что он делает. Шрейер не зря так его боится...
Камеры перебрасывают на президента Карвальо - раскрасневшегося, вспотевшего, злого.
- Я... - начинает Карвальо, но тут картинка рвется снова.
Карвальо дезинтегрируется, и вместо него над народом возникает человек, стоящий у искрящейся желтой стены. У человека знакомое и незнакомое мне лицо. Аннели узнает его - и зажимает рок рукой.
- Я любил одну девушку, - тяжело выговаривает человек. - А она любила меня. Я назвал ее своей женой, а она меня - своим мужем. Это простая и понятная вещь, господин Мендес. Как вы любите.
- Что? Кто? - галдит толпа.
- Моя девушка забеременела. Что может быть понятней? Но об этом мне рассказала не она. Не успела. Когда нашему будущему ребенку было несколько недель, к нам вломились бандиты. Вы слышали о них. В Европе бандиты действуют под крылом государства. Их тут называют Бессмертными.
Толпа начинает реветь - слитно, многоязыко. Я оглядываюсь на Аннели - и хватаю ее за руку.
- Аннели! Послушай...
- Эти бандиты пришли к нам ночью. Мы нарушили Закон о Выборе, сказали они нам. Закон, который заставляет родителей идти на убийство нерожденного ребенка - или на самоубийство.
- Он где-то тут, - озадаченно кряхтит пак в чалме. - Это же Башня Гармонии, желтая!
Помощники Мендеса, развернувшие проектор, наконец отрубают изображение, но Рокамора продолжает вещать с десятка реющих над грязным морем полицейских турболетов. Звук льется отовсюду и ниоткуда, будто это сами небеса говорят с человеками.
- По этому закону, они могли принудить ее к аборту или сделать ей укол, который превратит ее в старуху и погубит. Людоеды писали этот закон. Садисты и людоеды. Но для Бессмертных он оказался мягковат. Они сделали по-своему. Они изнасиловали мою жену и убили ее. Я чудом бежал.
- Долой! - визжит какая-то баба; и тут же зычный бас подхватывает. - Долой! Долой Карвальо!
- Аннели?! Аннели!
- Чудом, говорю я. Чудом! - один громкоговоритель отключается за другим, но полностью истребить глас Рокаморы им пока не удается. - Да я проклинаю себя за то, что остался жив! Я должен был там умереть. Умереть, чтобы моя Аннели осталась невредима. Должен был - и не сделал. Пытался договориться с этими убийцами, достучаться до них. Мы же в Европе! У нас же верховенство закона!
Что отвечает Мендес, как возражает Карвальо - люди этого не слышат; инженеры бессильны, их техникой завладел Рокамора - не иначе, как колдовством.
- Прости, - шелестит почти беззвучно.
И ее рука ускользает.
- Аннели! Не верь ему! - но она уходит в толпу, как вода в песок.
- Долой Карвальо! До-лой! До-лой!
- И вот еще. Нет никакого равенства, господин Мендес. Это миф. Пропаганда. Барселону уже много лет назад отрезали от европейского водоснабжения. Те, кто тут живут, не могут попасть в настоящую Европу, хотя им обещали убежище.
- Долой Беринга!
- ДОЛОЙ ПАРТИЮ БЕССМЕРТИЯ!
- Аннели! Аннели, вернись! Я умоляю тебя! Прошу! Где ты?!
Глохнут все динамики, кроме одного - последний турболет, экипаж которого никак не справится со взломанным оборудованием, отгоняют подальше - но эхо пересказывает слова Рокаморы каждому здесь.
- Мифы нужны, чтобы прикрыть людоедскую систему, господин Мендес. Я боролся с ней и раньше, до того, как... Моя фамилия Рокамора, люди меня знают! Но если бы только я мог вернуть Аннели... Я бы бросил свою борьбу. А они не оставили мне ничего другого. Долой Партию Бессмертия! Долой лжецов! Долой Беринга!
- ДОЛОЙ ПАРТИЮ БЕССМЕРТИЯ! ДОЛОЙ КАРВАЛЬО! ДОЛООООЙ!
- Аннели?! Аннели!
На меня наваливается страх - я никогда не отыщу ее в этой давке, в этом городе, в этой жизни. Мне жарко и холодно, лоб мокнет, льет в глаза кислота; у меня отняли мою серебряную трубочку, и грязная пленка нарастает, смыкается, забивает мою глотку; я думал, я излечился, но оказывается, я просто дышал через нее, через мою Аннели.
И вот тут случается цепная реакция.
Миллион, два миллиона, три миллиона голосов скандируют в унисон; и этим людям становится слишком тесно со своей ненавистью. Толпа нагревается, расширяется, расплескивается, и с какой-то невообразимой легкостью сжирает Мендеса вместе с его огромными телохранителями; как пузырь лопается двойное полицейское оцепление, цунами захлестывает вальяжно рассевшиеся на чужой земле турболеты, переполняет их, курочит, уродует. Синие поплавки полицейских шлемов сперва видны в грязевых потоках, потом их уносит куда-то, тащит, топит.
За секунду до того, как ничего уже не исправить, горделивое белое судно дергано и поспешно срывается с места, кренится и еле выравнивается; взлетевшие турболеты кружатся, опрыскивают толпу слезоточивым газом, но этому народу уже приходилось лить слезы, эффекта никакого.
Больше в этом месиве не найти никого; ничего.
- Аннели! - ору я, раздирая свою гортань.
- Аннели! - кричит с вертолета Рокамора, прежде чем его наконец затыкают.
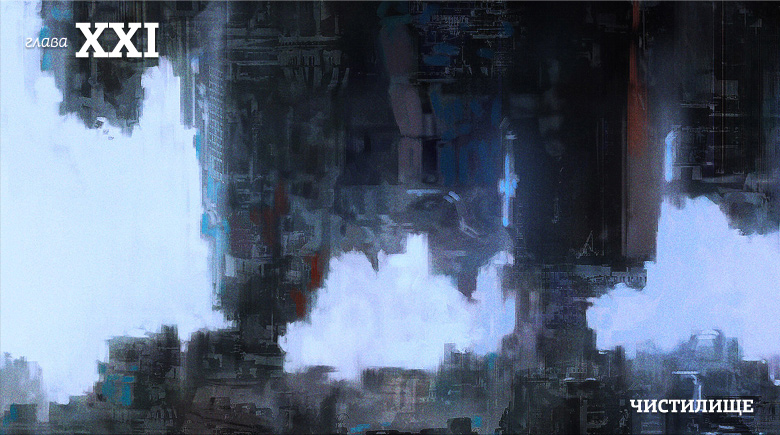
- Ааааннеееелииии!
Впереди в толпе - женская головка, обритая наголо. Пробиваюсь через тела, проталкиваюсь, распихиваю, отдавливаю ноги, иду по упавшим; кто-то снизу хватает меня за штаны, за бутсы, я спотыкаюсь и чуть не тону.
Нет, эти люди не море; эти люди - лава. Барселона пробудилась и извергается, трещит по швам, и из расселин выплескивается наружу ненависть, раскаленная докрасна, способная прожечь насквозь землю и расплавить наше композитное государство.
Я гребу сквозь кипящий камень, жуть держит меня за горло стальной хваткой; я должен добраться до нее, вот же она, всего в десятке шагов! Какой-то жирдяй не хочет сдвинуться, отгораживает Аннели от меня - я пихаю его в живот; отталкиваю старуху; шагаю по задавленному человеку, который, даже умирая, вопит «Долой!»
Тут уже не три миллиона, и не пять. Все, кто сидел по норам, по арматурным клеткам, прут наружу, вспомнив вдруг, что их клетки не заперты. И все эти миллионы потеряли рассудок, позабыли самих себя, склеились в одно громадное чудовище, кормят его своими телами и своими душами, и оно растет, поднимается, разбухает, призывает из щелей все новых людей, прирастает ими и ревет так, что мир содрогается.
- ДОЛООООЙ!
- Аннели!
Перекошенное от злобы лицо; это не она! Это даже не девушка, а какой-то субтильный тип с выщипанными бровями. Чудовище высосало из тщедушной безбровой оболочки того жалкого педика, что раньше жил в ней, и набило его чучело своей сущностью. И теперь тело педика орет басом, на который предыдущий жилец не был даже способен: «Даааалллоооой!»
Леплю ему затрещину - смачную, но короткую: замахнуться нет места. Он не чувствует ничего, ничего не понимает. Я верчу головой, ползу никуда, воюю с чудовищем - один против десяти миллионов оскаленных голов. Удушье - страх толпы - снова со мной. Я должен спрятать голову между колен, закуклиться и выть, но вместо этого я мечусь, вязну, затертый плечами, животами, бешеными взглядами, и просеиваю, просеиваю, просеиваю лица.
Каждый вопит, скандирует, топает, бьет в кастрюли и свистит в свистки. Голова моя - скороварка, забытая на плите. В глазах рябит от бесконечно осыпающейся мозаики. Одно из этих лиц - ее, мой шанс - один на пятьдесят миллионов.
- Аннели!
Меня выплевывает на крошечный пятачок, где линчуют попавшихся полицейских.
Их выковыривают - живых, мягких - из синей скорлупы, и раздирают с треском и хрустом, они воют от жути и нечеловеческой боли - я отворачиваюсь от них и бегу на месте - дальше. А у меня на плечах сидит моя собственная смерть - с равнодушным Аполлоновым лицом и дырками вместо глаз, я ее ношу с собой повсюду в рюкзаке. Если кто-то заподозрит меня - чудовище схарчит меня мигом, как сожрало тысячу полицейских и лощеного президента супердержавы, который вызвал его.
Только я не об этом думаю.
Мне нужно найти тебя, Аннели.
Почему ты бросила меня, почему ты с такой легкостью меня бросила?! Я ослушался Шрейера, я нарушил приказы, я мочился на наш святой Кодекс, я не смог тебя убить, я прятал тебя у себя дома, я потерял голову, я видел тебя во всех своих снах, я не стал трахать тебя, когда ты была одурманена и подставлялась мне, потому что хотел не трахнуть тебя, а заниматься с тобой любовью, да, идиотской пафосной любовью, я против всех запретов виделся с тобой дважды и трижды, я мечтал с тобой жить - размечтался! - думая, как за это меня кастрируют и живым швырнут в измельчитель мусора, как на моих глазах швырнули Базиля, моего единственного друга! Как ты могла оставить меня тут одного? Мне ведь никак без тебя нельзя! Слышишь?!
Меня несет куда-то. Я потерялся в людях.
Я проваливаюсь в чью-то нору, оказываюсь в каких-то коридорах, домах, в меня тычут грязными жирными пальцами, кричат что-то на неизвестном языке, седые, патлатые, лысые, узкоглазые, черные, рыжие, я кричу в ответ, отпихиваю их, бегу прочь - и снова возвращаюсь туда, откуда убегал. Воздуха мне.
Нет. Нет. Я зря. Зря так.
Ты не виновата.
Она не виновата.
Это все Рокамора. Лжец, манипулятор, трус.
Я должен найти Аннели, чтобы рассказать ей всю правду про этого ублюдка. Рассказать ей, как он спасал свою шкуру, оставляя ее Бессмертным в развлечение. Как Пятьсот Третий долбил ее кулаком - а Рокамора прикрывался ее воплями, чтобы отвлечь меня и достать свой пистолетик. Эта мразь не колебалась ни секунды, прежде чем сдать нам своего будущего ребенка, о котором теперь так скорбит. И даже когда у него в руках был ствол, он не думал освобождать Аннели. Он врет, брешет, Аннели, он ни о чем не жалеет, он насквозь прогнил, он не умеет ни о чем жалеть!
Я найду тебя, я расскажу тебе это, и ты поймешь, ты услышишь меня.
Услышишь. Услышишь.
Исполосованные, перемазанные помадой, кривозубые, усатые, брыластые, с проваленными глазами, с тройными подбородками, с вывернутыми африканскими губищами - я перебираю, перебираю чужие хари, ищу среди них одно лицо, ищу спасения.
В голове муть, я решаю, что мне необходимо забраться на разноцветную башню - потому что с высоты я непременно увижу Аннели! И я карабкаюсь, проливая семь потов, по винтовой лестнице, ярус за ярусом, пока ноги не начинают гореть, на вершину - но сил хватает только на половину. Приваливаюсь к прозрачной стене, легкие вот-вот порвутся, рубаха прилипла. Моргаю, вцепляюсь в поручни, чтобы не упасть.
Гляжу вниз.
От Средиземного моря до стеклянной стены - не найдется больше места ни для одного человека, все места заняты. Полощутся кроваво-красные флаги - знамена Партии Жизни, торчат наскоро намалеванные транспаранты: люди требуют справедливости, требуют нашей воды, требуют бессмертия для каждого и для всех. Жалами торчат стволы, биты, дреколье. Нет, не тараканы и не муравьи; здешние обитатели - осы, ядовитые осы - и Мендес с Рокаморой разворошили их гнездо.
Мне казалось, жители Барселоны в мире со смертью, им не нужен наш сраный Олимп, они молча хавают свою судьбу, жизнь однодневки учит наслаждаться каждой минутой. Я думал, они готовы приворовывать бессмертие, приторговывать им на черном рынке - но никогда не рискнут за него биться.
Не так.
Просто они ненавидели нас вразнобой, каждый по-своему и каждый по-отдельности; их ненависть иногда грела нас, иногда жгла - но ровно, рассеянно, как полуденное солнце. Но Мендес собрал миллионы лучей в пучок, преломил их своим выступлением, а потом Рокамора выхватил у него линзу и теперь хочет подпалить мир.
В рюкзаке верещит что-то.
У меня же вырублен звук! Как это?!
Отгораживаюсь от лестницы, от окон, достаю - все же коммуникатор. Экран пульсирует ярким, красным. Режим тревоги.
Никто тут меня не видит; башня опустела, последние жильцы с гиканьем пролетели вниз, перескакивая через три ступени. Подношу коммуникатор поближе.
Мигает оповещение: «Фаланге: Всеобщая Мобилизация!» - впервые на моей памяти. Раскрываю: всем Бессмертным предписано немедленно прибыть к границам муниципального округа Барселона. Подписано лично Берингом.
Всем. Значит, и мне. Отупело перечитываю сообщение.
В Фаланге пять тысяч звеньев. Пятьсот сотен. Пятьдесят тысяч Бессмертных.
Никогда не видел, чтобы все собирались вместе - потому что этого прежде не случалось. Что будет? Крестовый поход на бунтовщиков?
Я пытаюсь прочесть новости - но тут коммуникатор теряет сеть, и связь пропадает.
Снаружи громыхает. Взрыв?!
Нет. Пока нет.
В панорамном окне мелькает тройка армейских истребителей - черных, с небесно-голубым подбрюшьем - идут точно над башнями. Вижу, как они разворачиваются над морем и возвращаются в Европу. А с континента идет им навстречу еще одна тройка. Грохот - на минимальной высоте истребители преодолевают звуковой барьер. Толпа пестрит лицами - варвары позадирали головы, притихли. Разведка? Вряд ли - со спутников все и так видно...
Зря ловлю сеть - похоже, связь отрубили.
На опустевших этажах - впавшие в кому информационные терминалы. Трогаю экраны - они выдают психованную разноцветную картинку. Хорошо, я не эпилептик - от такого меня могло бы и коротнуть.
Обшариваю композитные пещеры, все в наскальной живописи. Хочу узнать - вдруг у кого есть комм другого мобильного оператора?
Но все заброшено.
Проходит еще несколько минут - и во всей башне гаснет электричество. Так же, наверное, и в остальных.
Барселону отрезают от мира.
Понимаю: они будут штурмовать город.
Мне надо найти Аннели до того, как пятьдесят тысяч Бессмертных маршем войдут в Барселону; вот-вот тут начнется кровавая баня, подобных которым Европа не видывала со времен Войн обреченных. Мне надо вытащить ее из жерновов, вернуть, поговорить с ней хотя бы!
Счет идет на минуты.
Если я не отыщу Аннели сейчас, я могу потерять ее навсегда.
Аннели, Аннели, Аннели, я ведь говорил тебе, что хочу быть с тобой, я ведь назвался своим настоящим именем, я ведь дезертировал в своих мечтах, я ведь сам решился почти уже на то, что запрещал Девятьсот Шестому! Почему ты мне не поверила? Почему ты поверила террористу, аферисту, клоуну, и не поверила мне?
Чем этот мерзавец тебя покорил?!
Что он делает лучше меня?! Трахается?! Лижет?! Оберегает тебя?!
Ты ведь писала ему, Аннели! Ты звонила ему! Он говорит, что похоронил и оплакивал тебя - а его комм лопается от твоих сообщений! Он знал, что ты жива, что ты ждешь его, зовешь, пытаешься встретиться! Но вот он устраивает это гребаное представление, признается тебе в любви при всем честном народе - и ты таешь, ты течешь и бежишь к этой мрази сломя голову!
Где он раньше-то был, а?! Где?!
Почему не ответил? Что же не отправил своих парней с пересаженными лицами сюда, к тебе - спасти тебя от меня?! Чего ждал?!
Потому что ты больше не нужна ему, Аннели! Не нужна живой!
Посмотри, какую трагедию он разыграл! Погляди, как купил пятьдесят миллионов душ на одну историю о том, как тебя изнасиловали и убили! Он продал тебя, да как! Мечта любого сутенера!
Дьявол, вот как называл Рокамору Эрих Шрейер. Дьявол. Тогда мне подумалось, что он драматизирует. Сейчас мне так не кажется. Что за власть надо иметь над человеком, чтобы он бежал к тебе по щелчку пальцев, после того, как ты предаешь его и глумишься над ним?
И мне становится страшно за нее.
Что станет с Аннели, когда она к нему вернется?
Ведь Рокамора уже рассказал городу и миру историю с печальным концом. Аннели - мученица, и сам Рокамора - мученик. В их страданиях жители Барселоны узнают себя. Их восстание начинается там, где заканчивается жизнь Аннели.
Я гляжу на алые знамена над многомиллионной толпой.
Этот конец - начало Рокаморы.
Если Аннели найдет его, Рокамора поцелует ее, а потом один из парней с чужой кожей заломит девчонке руки, а другой наденет ей на голову полиэтиленовый пакет и затянет узел и сядет ей на ноги, чтобы она не дрыгалась слишком. На все про все - пара минут. Рокамора, наверное, отвернется и подождет. Он умеет ждать.
Я снова бегу - скатываюсь вниз по лестнице, нащупываю выход, снова окунаюсь в кипящую лаву, снова сжимаю голову руками, потому что она так кружится, что резьбу срывает.
Рокамора заманивает Аннели в ловушку.
Она в опасности. Моя Аннели в опасности.
И я мечусь, перебираю людей, хватаю, бракую, падаю и поднимаюсь снова...
Пока я был с ней, Барселона казалась мне понятной, я начинал чувствовать ее; теперь местные снова пялятся на меня, как на чужака, а я путаю направления, не узнаю мест, где только что прошел - и прочесываю их снова. Не разбираю того, что они вопят, не могу прочесть надписи на плакатах; Аннели от меня отвернулась - и Барселона отворачивается.
- Аннели!!!
Успокоиться. Надо успокоиться. Надо перевести дух.
Спрятаться ото всех и отдышаться.
Нахожу брошенный киоск, торгующий газировкой. Запираюсь внутри, сижу на полу и вспоминаю, как мы мешали эту самую газировку с абсентом - только что. Киоск покачивается на человеческих волнах, вот-вот его раздавит, как скорлупку. Я зажмуриваюсь - передо мной мелькают лица-лица-лица, лица посторонних людей. Позыв: рот заполняет соленая слюна. Не выдерживаю и опорожняю желудок в углу.
И только тогда признаюсь себе: мне ее не найти. Я потрачу сто лет на то, чтобы проверить каждого в этом проклятом городе, а когда доберусь наконец до Аннели, то не признаю ее, потому что чужие лица вытравят мою сетчатку и я буду слеп.
Сижу на полу рядом со зловонной лужицей, обняв колени, уставившись в лейбл газировки, вспоминая, как она смешно морщилась, втягивая разбавленный абсент через соломинку. Не знаю, сколько времени проходит - прибой толпы укачивает меня, и я сплю с открытыми глазами.
Будит меня восторженный вопль.
- Ро-ка-мо-ра! - слышится откуда-то.
- Ро-ка-мо-ра! - подхватывают в другом.
- РО-КА-МО-РА!
Дрожащими пальцами отщелкиваю шпингалет.
Сразу вижу его. Вдалеке - проекция: Рокамора в окружении свирепых бородачей с перебитыми носами, обвязанных пулеметными лентами. Перед ним - Мендес. Поблекший, бумажно-белый, живой.
Каким-то чудом его успели выхватить из-под подошв, из-под каблуков, отряхнули и предъявляют теперь - не бунтарям, а пятидесяти тысячам Бессмертных и тем, кто посылает их сюда.
Должно быть, это тот проектор, который несколько часов назад разворачивали помощники Мендеса; автономный - электричества нет нигде, а солнце уже тонет, и скоро тут будет кромешная тьма.
- Ро-ка-мо-ра! Ро-ка-мо-ра! Ро-ка-мо-ра!
- Мы требуем переговоров! - глядя мне в глаза, произносит Рокамора. - Довольно крови! Здесь живут люди, а не скот! Все, чего мы просим - чтобы с нами обращались, как с людьми!
- РО-КА-МО-РА!
- Мы заслуживаем жизни! Мы хотим растить наших детей!
- РОКААААМООООРААА!!! - глушит его толпа.
- Мы хотим оставаться людьми - и оставаться в живых!
- СМЕРТЬ ЕВРОПЕ!!!
Он думает, что сможет управлять ими. Нет, просто его голова стала у этого чудовища пятьдесят-миллионов-и-первой, только и всего.
Он тут. Он точно тут, доходит до меня. Где-то неподалеку. И все местные знают, где; и Аннели знает. Я не могу разыскать ее, но найти Рокамору мне по силам. А там - и до нее дотянусь...
Выбираюсь из своей лодчонки, ныряю в людей.
Слушаю рассеянно эхо толпы.
Эхо доносит, что в море видны какие-то громадные корабли, каких тут отродясь не видывали: весь горизонт черный; что все ждут штурма и все готовы биться до последнего; что Рокамора вместе с заложниками - на Дне, в какой-то цитадели тамошних драг-лордов, вроде бы на площади Каталонии, под башней «омега-омега» или вроде того, что вокруг тысячи боевиков, половина паки-фундаменталисты, другая половина - сикхи, что они баррикадируют подходы, что туда уже никак не попасть. Говорят еще, что проклятый Беринг отрядил сюда полмиллиона Бессмертных, вооружил их и приказал бить на поражение, с контрольными; говорят, что Барселону зальют напалмом - но никто не боится, кого не спроси, все готовы умереть. Истребители сгустками тени шастают по сумеркам, громом гремят, рвут барабанные перепонки, отрабатывают бомбежку. Правильно мне будет умереть напалмом, думаю я вдруг. Вчера только я сжег заживо две сотни человек, а сегодня сожгут меня - так же, безлично, не разобравшись. Правильно, а жутко. Не хочу присохнуть высохшим мазутным пятном к другому человеку. Не к этим людям. Не тут.
Проговариваю это. Признаюсь себе. И догадываюсь.
Я воняю чужаком - и проведи тут не пару дней, а годы - не стану своим. Я чужой Барселоне и чужой ей. Аннели чуяла это во мне. И помнила, все время помнила, кто я такой.
- Аннели... - шепчу я. - Аннели... Где ты?
- Потому что мы - живые! - кричит Рокамора, потрясая кулаком.
- Рокамора! - скандирует те, кто кольцом стоит вокруг.
- РОКАМОРА! - отзывается площадь.
И тут, будто мое заклинание подействовало, оператору ненароком дают под локоть - камера прыгает - толпа ахает - а я вижу... Розовый мрамор кожи. Высеченные мной из пены чистые линии. Мои глаза. Взгляд - влюбленный - замкнут, зациклен на этом жалком демагоге. Она жива. Она уже нашла его.
Ей не натянули на голову пакет, она не синела, не обмочилась, не сучила ногами; вот она - стоит рядом, помогает ему обманывать этих идиотов.
- Она жива, - говорю я вслух, а потом - не хватает - кричу. - Она жива! Это ложь! Она не погибла, видите?! Он врет вам!
- Заткнись! - шикают на меня. - Не мешай слушать!
Выманила меня из конуры, сняла натерший шею строгий ошейник, почесала за ухом и потащила гулять. Я-то думал, у меня новая хозяйка - и какая! - а она наигралась со мной и просто бросила меня в парке. Вернулась к своему гребаному пуделю. А мне что делать? Что мне делать?! Я не экопет, не электронная моделька домашнего любимца, меня нельзя выключить и зашвырнуть на антресоли, если я вдруг слишком страстно по-собачьи атаковал твою ногу и всю ее перепачкал!
Я живой, ясно?!
- Гребаному пуделю... - подслушиваю я собственное бормотание.
Картинки мелькают: я шагаю куда-то. Не отдаю себе отчет, куда - но сама собой близится та башня, на которую я приехал поездом из Тосканы.
Та, где вокзал, из которого - туннель за стеклянную стену. По одну сторону Барселона, по другую - наши.
Поднимаюсь по пустой лестнице, ноги весят ноль, в черепе тоже ничего лишнего. По темному переходу, в котором мы застряли тогда с Аннели, в котором у меня отняли рюкзак - левой, левой, раз, два! - маршем мимо варящихся в дурманном дыму шайтанов. От меня сейчас другие волны прут, и шайтаны не решаются даже меня окликнуть.
По погасшим указателям трудно отыскать вокзал - но я металлическая пылинка, и электромагнит сам подтаскивает меня к себе. Там, за транспортным хабом, за перекинутым по облакам пролетам ажурного моста - собираются сейчас пятьдесят тысяч Бессмертных, строится Фаланга, и я хочу быть с ними, хочу в строй.
Как они попадут в Барселону? Стеклянная стена с единственными воротами на тридцатиэтажной высоте сделала Европу неприступной для нелегалов - но она же превратила этот город в крепость, осада которой может продолжаться месяцы и годы.
Понимает ли Беринг, на что посылает их? Тут, в Барселоне, у каждого мужчины есть оружие, и многие готовы расплатиться жизнью за бессмертие. Что смогут пятьдесят тысяч Бессмертных с шокерами против пяти миллионов вооруженных варваров? Почему авангардом не пошлют армейский спецназ?
Я не знаю. И, наверное, не должен знать.
Наконец станция: темно. При входе - тюфяком валяется синий полицейский, руки раскинуты в стороны, шлем пропал, голова промята, ткнулся носом в черную лужу, словно это не из него натекло, а он сам подполз - полакать.
Впереди шебуршит кто-то, достаю коммуникатор - посветить, и шокер - встречать новых хозяев. Прыгает луч фонарика, слышна арабская речь, ругань - звучит так, будто какого-то бедолагу собственными кишками рвет.
Комм пищит: сквозь помехи пытается уцепиться за слабый сигнал какой-то сети. Ловит, и его тут же распирает от сообщений. Пролистываю мельком: все сплошь закодированы. Бессмертные будут входить отсюда, через вокзал. До старта операции - минуты.
Подсвечивая себе дорогу, крадусь через черную станцию. Спотыкаюсь о новые тела - кто-то в синем, кто-то в буром. Бликуют слабо кафельные стены, исписанные требованиями равенства и проклятиями Партии. Пахнет гарью и дымом космических кристаллов.
Фонарь в глаза - слепит. Поднимаю руки. Боюсь напороться на настоящий гарнизон - штурма ведь ждут - но полицейские, похоже, дорого продали свои шкуры. Всех защитников - пятеро.
- Это ты? - спрашивают нетвердо и мучительно медленно; узнаю кристаллы.
- Да я! Я!
- Где остальные? Мы же сказали тебе, тащи сюда всех подряд! Тут сейчас жарища будет! - растягивают слова, забывают перестать жечь мне зрачки своим гребаным фонарем.
- Да идут они, идут! - я пытаюсь говорить так же, как он.
Наверняка идут. Но пока их тут пятеро.
- А эти, которые за пластиком рванули? Их не видел? Че-то долго!
- Я хер знает, - втягиваю сопли и жму плечами. - У вас вмазаться нет? А то сцыкотно чутка.
- Да не ссы! - наконец луч слезает с моих глаз. - Ща эти мост пластиком облепят, безродные к нам, а мы их - бам!
Пластик. Это они про пластит. Вот-вот припрут откуда-то взрывчатку и заминируют единственный мост. Сколько наших полетит в пропасть, когда они его рванут?
- Но кристалльчиком могу угостить, братиш! Мы же тут общее дело делаем! –араб харкает тягуче. - Иди, дунь с нами за справедливость!
Ворота они заперли, вижу, въезды на станцию запечатаны. Ворота мощные - их тут ставили, чтобы сдерживать натиск вандалов на цивилизованную Европу. Из синих трупов защитники Барселоны сложили брустверы, прячутся за ними, приладили свои стволы на чужие мертвые спины. Тут целый интернационал: обдолбанный араб напихивает тупоголовые тусклые патроны в кустарный револьвер, негр с дредами по пояс баюкает обрез с широченным дулом; двое усатых вахлаков целят в ворота из винтовок. Узкоглазый разливает из канистры керосин по бутылкам, затыкает их тряпичными фитилями - выходят порции коктейли Молотова.
- Долго что-то они... - шмыгает носом китаеза. - Сказали, за полчаса обернутся!
Слышу, как пиликает комм у меня в кармане.
- Это че? - интересуется араб.
- Дай затяжечку! - прошу я.
- Эу! На баррикаде! Помогли бы! Еле притаранили сюда эту херь! Здесь пуда четыре, на хер! - слышится из темноты.
- Тут не один мост, тут все вокруг снесет! - гыгыкает другой.
Вахлаки выбираются из-за синих брустверов и ковыляют на голос.
Все. Дай им еще пятнадцать минут - они превратят станцию в боеголовку, а гребаную башню в ракету; пятьдесят килограммов пластита... Коммуникатор звенит снова, все настойчивей... Араб выпускает клуб терпкого дыма, от которого воздух становится как вода, протягивает мне причудливую резную трубочку - пузатый карлик, сидящий на корточках, вперившийся своими выдолбленными глазками в глаза тому, кто его курит; мундштук трубки - его огромный кривой член.
- Угощайся.
Тычу ему шокером в шею. Зззз. Потом косорылому - он замахнулся на меня своей бутылкой, идиот - в щеку: зззз! Негр моргает удивленно, поднимается, переводит на меня ствол своего обреза так медленно, будто это стотонное орудие какого-то древнего линкора - я рублю его ребром ладони по шее, он хлюпает и кашляет, щелкает курком - обрез на предохранителе; оприходую его шокером куда придется.
Тут - набат: ворота выносят тараном. Бумм! Бумм! Бумм!
Значит, сигнал к наступлению уже дан. Они ждали темноты, двинулись по мосту, когда их не было видно снизу... Сейчас весь туннель наверняка накачан нашими...
- Че там?! - орут мне те, что с пластитом.
- Все ровно! - ору я в ответ.
БУММ! БУММ! Только ворота весят, наверное, тонн десять. Сколько они еще провозятся?!
- Пособить?! - бегу навстречу четверым, которые еле волокут два огромных бэкпэка, шаря вокруг слабенькими диодами.
БУММ! - поняв, что тарану ворота не по зубам, с той стороны подтаскивают лазерный резак, и слепяще-яркий зайчик проскакивает сквозь композитную толщу, пускается в долгое путешествие, оставляя за собой пустоту и оплавленный след, будто по шоколаду горячей ложкой ведут.
Если не я, то кто? Так говорит Эрих Шрейер.
Пристраиваюсь последним, придерживаю рюкзак с гневом господним, когда сую контакты шокера вахлаку в ухо - и тут же перекидываюсь на другого, даже не вижу его лица. Лучик прыгает, закатывается куда-то, второй лесоруб бросает свою ношу и сечет наотмашь длинным ножом, обжигая мне плечо. Бэкпэк падает, сутулый парень, который тащил его сюда столько, сипло втягивает воздух, но проходит миллисекунда - а мы все еще тут. Нож свистит еще, сутулый берет себя в руки, взваливает два пуда Геенны на свои усталые плечи - и трудно бежит к воротам.
БУУМММ!
- Стойте! Стойте!!!
Уворачиваюсь наугад от невидимого лезвия, бегу за сутулым. Тот останавливается в нескольких шагах от ходящих ходуном створ, опускает свою ношу, принимается шарить в рюкзаке, готовится испарить нас всех. Успеваю мигом раньше: за волосы оттаскиваю его от детонатора, пихаю шокер прямо в раззявленный рот - сдохни!!! Тут к нам добирается уцелевший вахлак, вижу его замах в лучике мертво уставившегося в угол диода. Могу только рукой прикрыться - ловлю нож за острое, еще хватает подумать: сейчас обрубки пальцев посыплются - вахлак удивляется, я отпускаюсь, мажу ему кровищей лицо, потом набрасываюсь сверху - я тяжелей, и двигаю потихоньку лезвие дальше и дальше от себя, а потом - зззз! - улучаю мгновенье.
Все... Сейчас...
БУММ! Где мой рюкзак?! Где моя маска?! Шатаюсь, пьяный - эхо скачет по пещерам - далекие голоса; идет подкрепление. А вот же... Вот же, за спиной. В рюкзаке. Напяливаю ее криво, бреду к воротам, нахожу замки...
Не вспоминаю ли я тогда о Радже, о Девендре, о Соне, о Фалаке, о Марго, о Джеймсе? Нет. Вспоминаю зато, как выколупывали из пластмассовой броньки полицейских, которые притащились сюда за этим лощеным панамским кретином. Как мне не поверила Аннели. Как показывали по всем каналам синих вспухших висельников из звена Педро. Как Фаланга - мы все - проглотили это тогда. Как она ушла к лживому пуделю, любителю телекамер.
- Свои! Свои!
Так я впускаю Бессмертных в Барселону.
Открываю - и сажусь наземь. Им не видно этого под Аполлоном - но я улыбаюсь.
Шрейер отпускал меня отдохнуть. Это был заслуженный отдых - за то, что я сделал с Беатрис и с ее старперами, с ее волшебными лекарствами и с ее ведьмиными прожектами. Но отдых кончился; пора за работу.
Меня окружают родные маски - я сдираю рукав с запястья: опознайте меня, я свой! Я такой же, как вы! Динь-дилинь - и мне протягивают руку помощи.
- Ян. Ян Нахтигаль 2Т, - говорю я им.
- Какого черта ты тут забыл?!
- Успел... Раньше... Пока они не закрыли... Осторожно... Там пластит... И подкрепление... К ним идет подмога... Сюда... С оружием... Слышите?!
- Отправьте его на материк! - приказывает кто-то. - Отвоевался, герой.
- Там... У них оружие... Тут у всех оружие... - бормочу я. - Почему они не пошлют армию? На каждого нашего их тысяча!
- Армия делает свое дело, - отвечают мне. - Дайте-ка ему противогаз!
- Что?..
Вся станция уже битком набита нашими; от тысяч фонарей здесь светло, как днем.
- Готовность! - орут откуда-то. - Три минуты!
И разом бледные Аполлоновы лица спадают с человеческих. На короткий миг я вижу перед собой не античное воинство, не перерожденную александрову фалангу, а толпу - распаренную, взволнованную - такую же, как та, что бушует внизу. А потом вместо отстраненных, прекрасных, мраморных все натягивают на себя чужие, черные маски - с зеркальными иллюминаторами вместо глаз и банками фильтров вместо ртов. Пропадают мелькнувшие было люди, превращаются в нечисть; начинается бал-маскарад.
Лица все незнакомые: пятьдесят тысяч - как их упомнишь?
Все, кроме одного.
Там, где пресекается поле моего зрения, с самого края, кто-то прячет в черный каучук свою голову, поросшую жестким курчавым волосом. Вздрагиваю. Удивительно даже, что я успеваю пометить его - он ведь отвернулся от меня, глядит мимо.
Скукоженная красная блямба с дыркой вместо уха.
Вместо того уха, которое я откусил.
- Этого эвакуировать! - распоряжаются мной.
И снова, как в тот день: вокруг одинаковые маски, разве только другого божества, - и опять Пятьсот Третий будет делать за меня то, на что я неспособен.
- Нет! Нет! Я пойду туда! - я выкручиваюсь, даже горечь в обрезанных пальцах гаснет. - Я знаю, где Рокамора! Где Мендес! Я поведу!
- Ладно-ладно... Наденьте на него противогаз! Почему он до сих пор...
И я суетливо разоблачаюсь, и воровато озираюсь на человека без уха - успел ли он меня узнать? - но теперь тут все и безухие, и безглазые...
- Две минуты!
Тут кто-то перебивает:
- Беринг выступает! Беринг обращается! К нам!
Беринг у каждого на левом запястье - в коммуникаторе, сидит на том самом месте, куда колоть, слушает нас пульс - или задает ему ритм. Все делают громче - и Беринг говорит к нам:
- Мы были с ними терпеливы! А они приняли наше терпение за трусость! Мы были с ними добры! Но они приняли нашу доброту за слабость! Мы спасали их от войн! Мы отдавали им свой хлеб и свой кров, свою воду и свой воздух! Мы отказываем себе в продолжении рода! А они плодятся тут как тараканы. Мы подарили им новый дом, а они загадили его и теперь рвутся к нам. Троглодиты. Каннибалы.
Я верчусь, пытаюсь вычислить Пятьсот Третьего - бесполезно. Все одинаковые, все штампованные, все приникли к Берингу, как дитя к титьке.
- Тысяча ребят из полиции сегодня погибла. Погибла? Они их перебили! Как скот перерезали! Наших ребят! Моих! Мы слишком долго ждали... Они накачивали Европу наркотой - мы ждали. Воровали наше - ждали. Заражали нас сифилисом и холерой - ждали. Теперь они режут нас! Взяли в заложники президента Панама, требуют, чтобы мы дали им бессмертие! Если мы это стерпим, хана нашей Европе! Мы или они!
Его голос, Беринга, точно; но с него сорвало всю манерность, всю жеманность. Он рубит так, как мог бы рубить любой звеньевой - и целая Фаланга молчит, пристально вслушиваясь в каждое его слово.
- Их там пятьдесят миллионов, этих неблагодарных, ненасытных тварей! Мы могли бросить на них армию, истребить их, сжечь проклятое место дотла! Но мы не опустимся до уровня этих зверей! Европа не даст себя оскотинить! Нас испытывают, но мы должны доказать, что им нас не сломить! Гуманность! Нравственность! Закон! Вот на чем держится наше великое государство! Братья! На вас сейчас смотрит весь мир! Именно вы должны войти в Барселону первыми! Вы должны показать, что значит Бессмертные! Сегодня вы покроете себя славой!
Вижу, как спины распрямляются, как черные фигуры тянутся во фрунт. А Беринг заколачивает:
- Мы не прольем их грязной крови! Но ноги их больше не будет в нашей стране! Все они подлежат депортации! Среди них много таких, кто своровал наше бессмертие! И если не принять мер, они вернутся! Как тараканы, как крысы! Поэтому! Перед тем! Как отправить! Этих! Зверей! Обратно! В джунгли! Каждому! Мы! Будем! Колоть! Акселератор! Хватит терпеть!
- Хватит терпеть! - глухо повторяют вокруг.
- Забудь о смерти! - печатает Беринг.
- Забудь о смерти! - чеканит Фаланга.
- Маааааарш! - ревут мегафоны.
Так я оказываюсь на острие копья; впереди лавины.
Я найду тебя, Рокамора. Тебя и твою Аннели. Ты укрылся на Дне, в самом зверином логове, ты окружил себя головорезами-автоматчиками, ты думаешь, что я тебя не достану, что я отступлюсь, что я теперь дам вам жить спокойно?!
Нам плевать, что вас больше в тысячу раз. Плевать, что вы вооружены.
Мы идем.
Меня выносит со станции - мы обрушиваемся на Барселону сверху. Я гляжу вперед, но спина все время свербит: Пятьсот Третий где-то рядом, где-то тут. Смотрит на меня, прожигает меня.
На площади продолжается стояние. Теперь, в темноте, когда бунтари зажгли факелы и фонари, площадь и вправду выглядит, как тонкая земная корка, растрескавшаяся и расползающаяся - распираемая давящей снизу огненной лавой.
Панорамные окна неоновой башни, окна от пола до потолка: в темно-синем летнем небе сгустками тьмы летят армейские эскадрильи. С континента на мятежный город надвигается воздушный флот. А с моря - отсюда я сам вижу горизонт - подходят суда, и нет им числа. Сжимаются клещи, но Барселона не дрогнет: с площади двухсот башен поднимается, растет, раздувается:
- ДО-ЛОЙ! ДО-ЛОЙ! ДО-ЛОЙ!
И после еще:
- РО-КА-МО-РА!
Я уже считал эту Гоморру своей, но она изменила мне с Рокаморой точно так же, как мне изменяет с ним Аннели. Город-шлюха, город-предатель. Гордая шлюха и ожидаемый предатель, но я ненавижу его тем больше, чем больше хотел им обмануться.
Это будет великий штурм, великий бой. Я не слышу, как течет моя кровь из разрезанных пальцев и распоротого плеча, ничего не знаю про боль.
- Забудь о смерти! - кричу я.
И тысяча глоток трубно подхватывает мой клич.
Совать контакты шокера в живое, пока не иссякнет заряд, а потом бить, обдирая костяшки, кусать, царапать так, чтобы ногти ломались. И пусть меня тоже колотят, пинают, дробят мои кости, пусть вышибут из меня всю дурь, пусть я сдохну чистым, непорочным, пустым; тут, со своими, не страшно погибнуть.
Я хочу умереть в бою и хочу стать богом-супергероем, хочу пролить на Барселону кипящую серу, хочу послать на нее столпы огня и истребить каждую душу, которую я тут полюбил - и которая сочувствует Рокаморе, его борьбе и его любви.
Но я не бог, я металлическая пылинка, и небеса безоблачны и звездны.
- Аннели, - бубню я в фильтры противогаза.
Ничего не выходит наружу: фильтры задерживают грязь.
А потом широкие крылья бомбардировщиков заслоняют людям внизу свет звезд; они несутся стремительно, как ангелы-меченосцы, и куда пала их черная тень, там все умолкает. Отделяются и валятся вниз бомбы, рвутся, не достигнув земли, над головами. Каждая лопается, выбрасывая газ. Люди пригибаются, падают, обнимаются в страхе, готовясь умереть в пламени - но только вдыхают невидимый и безвкусный газ и падают наземь.
Когда мы сходим на площадь - нас встречают только несчитанные миллионы недвижимых тел. Но никто не умирает: в прекрасной стране Утопии нет ведь ничего превыше закона и нравственности.
- Сонный газ! - объясняет мне черное лицо с непроницаемыми мушиными глазами.
Вот как мило. Все просто спят - и ждут, пока мы их разбудим.
Это просто волшебная сказка, просто какая-то блядская волшебная сказка.
На площади двухсот башен для нас нет места; все завалено телами. И мы идем по телам - сначала ступаем с оглядкой, а потом как придется. Они мягкие и неверные; идти по ним сложно - так, наверное, было ходить по болоту или по песку - пока мы не залили пустыни и топи эластичным цементом, как и всю прочую землю залили. Потому что земля слишком хлипка для наших небоскребов.
- Куда? - спрашивают у меня. - Веди нас к Рокаморе!
Над спящим королевством как воронье над полем боя кружат турболеты, тычут в тела толстенными прожекторными лучами - никто не шевелится? Все лежат тихо.
Прожектора рассматривают башни, и вместе с ними я вижу то, что не увидел бы в темноте: две греческие буквы «омега». Та башня, о которой говорили в толпе. Тот самый обелиск, который придавил грудь похороненной внизу старой площади Каталонии. Где-то там.
- Там! - я указываю на обелиск. - Внизу!
Мой коммуникатор снова жив, заваливает меня сообщениями о том, как движется операция: в порт Барселоны входят пустые мегатанкеры - это их мы видели на горизонте. «Тут огромный порт, и набережная - знаешь, какая!», ее голос. Трясу головой: убирайся оттуда!
- Живей! - командую я своим командирам. - Пока газ действует! У них там Мендес, надо его вытащить!
У них там Аннели, имею в виду я. Ее надо... Надо... Черт разберет.
И мы скачем по спинам и животам, по ногам и по головам - к башне «омега-омега». Скорей, пока не поздно! А спину все свербит, все жжет и давит, и я не знаю, нет ли в нашем авангарде его, Пятьсот Третьего, не веду ли я его к Аннели - сам, опять...
Вот башня: «омега-омега», вот вход, вот лестница; сонный газ весит больше, чем воздух, ядовитое облако опустилось на землю, просунуло свои пальцы в тараканьи щели, шерстит там, нащупывает, давит паразитов.
Мы шагаем по ступеням - на каждой лежат павшие боевики, по глаза замотанные арабскими платками, перепоясанные патронташами. Никто не сопротивляется нам. Так вот и смерти было прежде легко работать с людьми.
Мечта, а не работа - а руки зудят, и нутро требует боя.
Вставайте! Деритесь! Какого хера вы тут разлеглись?!
Я пинаю бородатого моджахеда в скулу - голова отскакивает и гуттаперчево возвращается на место. Дерись! Дерись, сссука!
Меня оттаскивают от него, увлекся, науськивают - Ищи! След! - и я продолжаю спуск.
Площадь Каталонии - средневековый базар, застигнутый чумой. Модернистские шестиэтажные дома из уставшего стоять камня все в копоти, окаймленный ими загон - сама площадь - делает последний выдох. Все уснули; лежат на земле, как придется, где застала их отрава. Догорают на жаровнях обугленные шашлыки, доигрывают мелодийки аккумуляторных игровых автоматов, ткнулись в стены электрокары и жужжат уныло. Мокрая брусчатка под ногами заставлена торговыми палатками, и в каждой палатке - тела. Темень стоит такая, будто вся Вселенная схлопнулась и нет ничего больше, кроме Земли - про Землю-то нашу забыли. Такая темень, будто я в сам Аид спустился, к дохлым древним грекам.
- Ну и где тут?!
Зажигают фонари. Ищи.
- Тут где-то. У каких-то наркобаронов... На базе... Тут...
- Ясно... - без выражения пялится на меня один из них. - Разделимся! Все дома обыскать! Мендес нам нужен! Остальных - опознавать, колоть, и на танкеры!
И мы разделяемся, и мы ищем.
Мне дают антисептик, чтобы мои раны не гноились, пластыри, чтобы я их больше не видел, и обезболивающее, чтобы я о них не вспоминал. И я о них больше не вспоминаю.
Аннели...
Я не нашел тебя в царстве живых, я хочу найти тебя в царстве мертвых. Дом за домом, квартира за квартирой, коридор за коридором, клетка за клеткой, ступень за ступенью, подвал за подвалом. Сколько тут людей. Сколько тут людей.
Мы решились войти в Барселону, зная, что на каждого нашего приходится по тысяче бунтарей. По тысяче озлобленных, отчаянных, орущих, вооруженных человек, которым нечего терять.
Сейчас они лежат, скованные, дышат еле заметно, их руки и ноги сделаны из податливой мягкой резины - и все равно их слишком много, чудовищно много; тысяча на одного! Теперь я понимаю, что значит это число.
У меня - мое дело, но я должен делать и другое, общее: каждому спящему ткнуть в запястье сканером, узнать его имя или присвоить ему номер, вколоть акселератор, надеть на руку бирку: оприходован, потом погрузить его на носилки, вынести наверх. Там пашут другие бригады: разбирают тела, освобождая дорогу для уже прибывших грузовиков, складывать живых мертвецов штабелями - голова свободна, лицом вниз, чтобы не захлебнулись рвотой - и везут их в порт; там ждут мегатанкеры, супербаржи, все суда, какие Беринг смог реквизировать для нашей операции.
И я роюсь, роюсь в чужих домах, заглядываю в лица усыпленным старикам, мужчинам, женщинам; садятся батареи сканера - нам раздают новые. Кончается заряд инъектора - подвозят свежие. Спина болит жутко - работа в наклонку, усыпленные весят как мертвые, а мертвые втрое тяжелей живых. Усыпленные сопротивляются нам - своей тяжестью, своим безволием.
Я просил сражения, хотел воевать - но это похоже не на битву, а на нескончаемые похороны. Что делать? - я воюю с ними, как умею: ворочаю их, задираю рукава, заправляю вывалившиеся груди, утираю заметанные губы, лезу в глаза фонарем. Никто не очнется: химия шагнула далеко вперед. Что им снится? Может, им всем видится одно и то же? Пустота?
Проходит день, проходит ночь. Их остается девятьсот на одного.
Почему нам никто не помогает?
Аннели нет среди них. Нет Рокаморы. Нет Мендеса. Нет Марго. Нет Джеймса. Все - посторонние люди.
Я валюсь от усталости - засыпаю на усыпленных - кто-то другой разгребает их, пока я в забытьи. Нам устраивают герметичные палатки, в которых можно снять противогаз хотя бы на несколько минут, перекусить, напиться. Мы жуем молча, не разговариваем друг с другом: не о чем тут говорить.
Не о том же, что мы каждым уколом мы отвешиваем кому-то последние десять лет его жизни, не разбираясь, ничего не выясняя? Они не спорят с нами - и хорошо, и чудесно. Есть чрезвычайное законодательство, Беринг в новостях все исчерпывающе объяснил Европе и всему миру: если не уколоть каждого, они вернутся. Мы делаем это не для того, чтобы наказать их. Мы это делаем, чтобы их воспитать. Дабы избежать повторения подобного в будущем. Европа имеет право на будущее, говорит Беринг.
Проходит еще ночь и еще день и еще ночь - я стараюсь работать техничнее, я перекидываю инъектор из кровящей правой руки в неумелую левую и обратно, я присаживаюсь на чьи-то спины, потому что сгибаться больше нет мочи, поясницу жжет, и ноги затекли, и воздуха мало, мы закончили с площадью Каталонии и движемся по бульварам Рамблас, и надо спешить, потому что они начнут просыпаться, и мы не успеваем, и снова падает на землю тяжелое облако и обволакивает всех, и уволакивает в черноту, и мы ворочаем жирных, кладем на носилки дряхлых, несем девушек-травинок, за руки и за ноги швыряем стариков, опознаем-колем-опознаем-колем-опознаем-колем-колем-колем, и давно переслащено с местью, я не могу больше ненавидеть тебя, Барселона, потому что не могу больше ничего чувствовать вообще, а их все еще пятьсот на каждого из нас, хоть бы они кончились, хоть бы они кончились, и чертовы танкеры подходят к порту один за одним, мы кормим их мясом, они набивают полное брюхо и отваливают, а мы скоблим потроха Барселоны, расселяем гребаный Аид, ад закрывается, мы тут теперь все выкрасим белой красочкой, и выведем вонь от ваших кристаллов, и от вашей мочи, и от вашего карри, и от ваших прелых тел, отныне тут все будет благоухать синтетическими розами, а вы убирайтесь в Африку, пусть танкеры вываливают вас где угодно, не наше дело, только проваливайте отсюда, только закончитесь уже, пожалуйста, но они молчат, я говорю с ними от одурения, от измождения, а они молчат, словно воды в рот набрали, и я кидаю, перекладываю, колю, опознаю, колю, а Аннели все нет, и никого нет из моих знакомых, хотя я и не боюсь больше встречи с Раджем, или с Бимби, не боюсь принимать решение, не боюсь их колоть - ничего не боюсь, кроме одного: когда тела иссякнут, когда я выйду отсюда наверх, когда меня отпустят из Барселоны - я так больше ничего никогда и не почувствую, потому что стер себе все нервы в кровь, и вместо них наросла короста, а потом будет жирная непробиваемая мозоль, а когда остается всего сто человек на меня, на каждого из нас, я не боюсь уже и этого; и когда мы вскрываем христианский приют для сирот - двадцать девчонок от трех до десяти лет, морщинистые монашки еле дышат, дергают под веками выпуклыми зрачками, мы вызываем спецбригаду, все по протоколу, с детьми должны разбираться женщины, так уж создала нас природа, и через час они прибывают - женская десятка, жилистые бабы в черном, маски Афины Паллады вместо лиц, и мне нужно стоять в стороне и смотреть, как они оборотисто и споро разбираются с детскими тушками, и я не думаю о том, что вот эта с коротенькими курчавыми волосенками, ей три - чик! - умрет маленькой высохшей старушкой в тринадцать лет, эта черненькая - ей пять - чик! - доживет до пятнадцати, может, успеет влюбиться - а эта, семилетняя, красавица, с длинной густой косой - почти попробует жизни, но ранняя старость переварит и съест всю ее красоту прежде, чем та успеет расцвести по-настоящему, а потом они утаскивают спящих девочек на руках, обнимая их по-матерински, куда-то в темноту.
Одна из монашек тревожно мычит, хватается за сердце, и вдруг садится, таращась на меня подслеповато.
- Что?! Что?! - хрипло кричит она и крестит меня, крестит, будто я сейчас от этого завою, заверчусь волчком, загорюсь и сгину.
- Тссс... - я подхожу к ней и глажу ее по голове, прежде чем коротко приложить шокер. - Все хорошо. Спите. Спите.

Пачка пустая.
Я открываю дверь, чтобы дойти до трейдомата, и ко мне вваливается курьер с приглашением. Настоящий живой курьер с руками и ногами.
Оно отпечатано на превосходном толстом пластике, черный фон, золотые буквы с завитками. Именное - чтобы я не сомневался; потому что я, разумеется, сомневаюсь. Через несколько часов на коммуникатор приходит еще и электронное извещение, подтверждающее, что это не розыгрыш.
Министр Беринг... Члены Совета... Имеют честь... Вас, многоуважаемый... Почетного гостя... Съезд Партии Бессмертия... Башня «Пантеон»... Такого-то числа... Ровно в... Не требуется...
Вот он, сюрприз, который мне обещал Шрейер.
Наслышан о твоих подвигах, сказал он мне.
Подвиги? Я не совершил ни единого. Ничего такого, что не делали бы остальные. Торчали на этом кладбище чуть не две недели. Сначала грузили их как мешки, а потом накачивали водой, чтобы, не дай бог, кто не помер не по графику. Мы вместе там были. Но остальные удостоились похвалы Беринга в новостях («В одиночку решив барселонскую проблему, Фаланга доказала свою совершенную незаменимость!») и небольшой премии - а мне дали месяц на восстановление и обещали сюрприз.
Я не спорил. Использовал месяц как надо: каждый день ездил в сады Эшера и смотрел, как люди играют во фрисби. Ждал, что меня кто-нибудь позовет присоединиться, но никто не звал.
Еще я жрал. И спал.
Мне не очень хотелось жрать, спать и играть во фрисби, но надо же чем-то заниматься. Да, и я сделал два открытия. Первое: когда один день похож на другой, часы идут быстрей. Второе: если пить одновременно таблетки счастья и успокоительное, скорость прокрутки времени умножается на четыре.
И, конечно, я смотрел новости. Настроил их так, чтобы ко мне попадали любые сообщения с ключевыми словами «Рокамора» и «Партия Жизни». Все жду, когда эту мразь отыщут или убьют; но он сквозь землю провалился. Ни его, ни Аннели. Захвачен втайне и сидит в карцере? Не идентифицирован и как рядовой нелегал отправлен в Африку коротать оставшиеся десять лет в гуманитарной палатке? Случайно подох и был исключен из статистики?
Мендеса нашли - это да, это была топ-стори на целую неделю по всем каналам. Мендес жив, Мендес пришел в сознание, Мендес попросил воды, Мендес поел кашки, Мендес покакал, Мендес помахал ручкой, Мендес полетел домой.
Но это ведь не я нашел Мендеса, а кто-то другой.
Так что мне неизвестно, из-под чьих тел его доставали; неизвестно, не было ли рядом с ним самого разыскиваемого террориста планеты; неизвестно, лежала ли там девушка, обритая наголо - а в новостях об этом ничего; я сто раз звонил Шрейеру, тот приказал мне успокоиться, дал месяц на восстановление и обещал сюрприз за мои подвиги.
Мои подвиги. О чем он, интересно? Я обещал привести наших к Рокаморе - и не привел.
Зато прикатил в Барселону с девчонкой, которую должен был ликвидировать. Зато эта девчонка сделала запрос о местонахождении моей матери, используя свое собственное имя. Зато я не отвечал на вызовы своего партийного куратора.
Нам говорят, что за нами не следят. Бросьте: не посадишь ведь пятьдесят тысяч человек, чтобы они круглые сутки следили за другими пятьюдесятью тысячами - из чьего кармана это оплачивать?
Но если один из пятидесяти тысяч вдруг особенно заинтересует кого-то...
Я открыл Бессмертным ворота в Барселону. Я сражался с сонными трупами, не отлынивая ни на секунду.
Я не думал, что это может искупить все, что я натворил - просто делал, что должно. Это и не искупит; поэтому, когда Шрейер пообещал мне сюрприз, я решил, что он говорит о показательной казни.
Но у меня не было сил бежать. Не было - и нет. Нет сил - и нет убежища, где я мог бы укрыться. Нет места, которое я мог бы назвать своим. Нет людей, которые меня ждут. Я вколол им акселератор и вышвырнул их в Африку.
Поэтому целый месяц я умножал антидепрессанты на успокоительные, спал и глядел, как играют во фрисби. Это как подписка о невыезде. Как тиски, в которых зажимают гусей, чтобы они не дрыгались, пока их пичкают насильно и доводят их печень до цирроза. Потом их печень мажут на гренки и называют деликатесом «фуа-гра».
Вот какого-то такого сюрприза я и жду. Вроде этого фуа-гра.
Месяц пролетел быстро. Небезрезультатно: рука заросла, пальцы почти сгибаются, набрал шесть кило. Будем считать, восстановился. Задание выполнено.
И вот - оно. Почетный гость на съезде. Или козел отпущения, которому жрецы будут сегодня торжественно резать глотку.
Что я чувствую в связи с этим? Я прислушиваюсь к себе: должен ведь я хоть что-то чувствовать по такому важному поводу! Ну? Ну!
Конечно, я принимаю приглашение, и в назначенный час оказываюсь у подножья башни «Пантеон». Штаб-квартира Партии Бессмертия. Одно из величайших зданий континента.
Ответственный день, думаю я. Сегодня обойдемся без таблеток.
«Пантеон» - колонна беломраморного композита километром в обхвате, возносящаяся высоко над прочими небоскребами; гостей съезда встречают у парадного входа - почти у самой земли, на ничтожном десятом ярусе: восхождение на крышу мира нельзя начинать с полпути.
Огромный подъезд - турболет влететь может, а лестница такой ширины, что полсотни людей поднимутся в ряд, не толкаясь локтями. Даже каменные ступени шире и выше, чем нужно простому смертному; в том-то и затея. По лестнице расстелены тканые паласы, и на каждой второй ступени стоит часовой-Бессмертный в черном хитоне и маске.
Свет нежный и льется из недр самого псевдомрамора, которым тут устелено все.
Странный запах - древние храмовые благовония, забытые, открытые заново и синтезированные специально для «Пантеона». «Это мирра», - объясняет мне на первой остановке кудрявый божок, принимающий мою мрачную будничную одежду и вручающий мне белый хитон.
После - еще двести ступеней вверх, под пение свирелей, под почтительный шорох других гостей, одолевающих эту бесконечную неудобную лестницу вместе со мной.
Здесь и юноши, и девушки - юные, превосходно сложенные, прекрасные. В хитонах все; таковы правила. Это не прихоть и не карнавал, а скромная дань истории.
Партия Бессмертия возвращает нас в счастливейшую из эпох, прожитых человечеством с тех пор, как он встало с четверенек и по наши дни, говорит Шрейер.
Партия Бессмертия провозглашает новую античность.
Возрождается великая древность. Эра по-настоящему бессмертная, оказавшаяся моложе более поздних железных веков, которые давно проржавели и рассыпались трухой. Заразившая вирусом своей нетленной красоты все последующие цивилизации - и проявившаяся в них всех сотни поколений спустя. Гены сегодняшней Европы прошиты этим вирусом - и именно он сделал ее вечно юной. Мы все несем его в себе, мы его естественный резервуар. Это тоже из Шрейера. Умеет завернуть.
Лифты ожидают нас только на второй остановке - триста неловких ступеней, которые велики для людей - от входа. Тут тоже почетный караул Бессмертных; возможно, среди них есть те, кто две недели бок о бок разгребал со мной Барселону - но как узнать их по Аполлонову лицу?
На мне самом маски нет. Без нее неловко, стыдно: как разглядывать бонз Партии, ее жертвователей, функционеров, ее влиятельных друзей, членов Совета? Мы видим их только в новостях - и далеко не всех; а ведь если и есть подлинные бессмертные, в чьих руках сегодня Европа - это они.
Юнцы. Вечные юнцы.
Золотой лифт поднимается неспешно, за стеклянными дверьми сменяются ярусы: строгие холлы для построений, лабиринты для игр, амфитеатры на берегу Эгейского моря. Храмы Аполлона на скалах и храмы Афродиты в зеленых лесах - как дань эстетике, разумеется, потому что бессмертные не нуждаются в богах. Тайные купальни, Парфенон, увеличенный трижды, возвращенный из небытия Колосс, и бессчетные залы - для собраний, для слушания симфонической музыки, для просмотра видео; оливковые рощи под ласковым солнцем; бассейны с живыми дельфинами; гимназиумы; музеи; а где-то за всем этим на каждом из двух тысяч ярусов - кабинеты, приемные, комнаты для конференций; и кто знает, что там еще. Где-то на самом верху расположен Великий Наос, циклопических размеров зал, где проходят сами съезды.
Шрейер назначил мне встречу в пиршественных комнатах на ярус ниже Наоса. При входе Бессмертные сличают приглашения гостей с базой данных.
Ну, вот оно.
Жду, что мне заломят руки и отведут в пыточную где-нибудь под бассейном с дельфинами, или вздернут на оливковом дереве - но мне кивают и пропускают внутрь.
Следует разуться. Под ногами - мягчайшие ковры с живым рисунком, на стенах - изображения обнаженных атлетов. За окнами - склоны холмов, будто птичьими гнездами покрытые округлыми белыми мазанками, и пыльная летняя зелень, и сонное море, крашенное в лазурь. Увешанные лимонами ветви гладят стекла.
Шрейера я нахожу в глубине помещения, у столов с яствами.
Сенатор окружен ухоженными молодыми людьми в цветастых хитонах с затейливым рисунком; об руку с ним - Эллен, волосы забраны на затылок, одета в простое, белое, по щиколотки, но ткань скреплена небрежно и в прореху выглядывает из тени ее нарочито-уязвимый бок, ниже выступает бедро - полированная медь.
Эллен скучает, Эрих увлечен. Но он замечает меня сразу - а она игнорирует. Когда я приближаюсь к ним, она отходит в сторону; ему на это плевать.
- Правда, Эрих, ну что ты все время таскаешь за собой эту клячу? - не дождавшись даже, пока Эллен окажется вне досягаемости, треплет Шрейера по плечу кудрявый Пан.
- Она моя жена, Филипп, - разводит руками Шрейер.
- Жена! Ты, наверное, последний человек в Партии, который до сих пор живет с одной и той же бабой! - качает головой озорной Филипп.
- Я стар и сентиментален, - шутит Шрейер. - Ян! Наконец и ты. Господа, это Ян, мой молодой и подающий большие надежды друг.
- О! Наслышан, - улыбается мне породистый красавец с буйной гривой. - Наконец-то свежие лица! Вы не представляете, как это утомительно - созерцать на Съездах одни и те же физиономии на протяжение двухсот лет! Я, наверное, смогу все сто тысяч назвать по именам, и сказать, кто с кем спал - и в каком веке!
- Я знал, что ты тоскуешь по свежей крови! - смеется Шрейер. - Кровосос! Это Максимилиан, он в панели директоров «Клауд Констракшн», это они застроили половину континента и рвутся застроить вторую...
- Если вы прекратите ставить нам палки в колеса! - хохочет Максимилиан.
- Разумеется, я в курсе, - киваю я.
- А это Рик, - продолжает Шрейер, указывая на благородного героя, только что сбросившего доспехи гоплита и не успевшего побриться. - Поздоровайся, Рик! Рик у нас отвечает за связи с правительством в «ТермоАтомике»...
- Так в «ТермоАтомике» или у нас? - улыбаюсь я Рику.
- Да он у тебя весельчак! - подмигивает мне Рик.
Эллен смотрит в окно; в экран.
- Пойду, поздороваюсь с вашей супругой, - сообщаю я Шрейеру.
- Бросьте! - отмахивается Рик. - Какой интерес?
- Эрих, клянусь, люди у тебя за спиной уже шепчутся... - поддерживает Максимилиан. - Женатый... Может, детей еще заведешь?
- Послушай, старик, но ты же держишь дома кошку? - смеется Шрейер.
- Мне, кстати, пришлось ее стерилизовать - столько было вони, воплей и шерсти, караул! Зато теперь у нас полная гармония.
- Я подумываю сделать со своей то же самое, - ослепительно улыбается Шрейер. - Но выбрасывать? Это жестоко!
- Позвольте, - кланяюсь я им. - Я все же поздороваюсь. Мне-то она женой не приходится.
Я подбираю на столе два бокала с вином и подхожу к Эллен.
- Начинаю вас понимать.
- Не думаю, - она не оборачивается.
Пытаюсь сообразить, что сказать еще; Эллен и не думает мне помогать. В зале превосходная акустика: все, о чем беседует сейчас Шрейер со своими друзьями, ей отсюда слышно. И мне кажется, что подслушивать такое ей приходится не впервые.
- Говорят, сенатор Шрейер - последний женатый человек в Партии, - тяну я. - Наверное, это все же чего-то да стоит.
- Вы имеете в виду - чего это стоит мне?
Шрейер машет мне рукой - мол, хватит там, иди к нам, тут весело!
- Простите, что не отвечал вам, - говорю я. - У меня было трудное время.
- Представляю. А я вот не знаю, как со скукой бороться. Тоже беда.
- Смените обстановку, - предлагаю я. - Съездите куда-нибудь, развейтесь. В Россию.
- Что вы, - ровно произносит она, так и не поворачиваясь ко мне. - Дальше первого этажа у меня поводка не хватит.
Что тут сказать еще? Я кланяюсь ее восхитительному затылку и возвращаюсь к Шрейеру и его друзьям с двумя наполненными бокалами.
- Вижу, тебе она сегодня тоже не благоволит, - добродушно потешается надо мной Шрейер. - Гормональная буря! Всем в укрытие! Видишь, что бывает с людьми, которые отказываются принимать таблетки безмятежности? Рано или поздно их приходится переводить на успокоительное.
- Вы умеете убеждать, - улыбаюсь ему я.
- Ян! Ну что за «вы»? Мы же договаривались... - он глядит на меня укоризненно. - Давай пройдемся. Простите нас, ребята... - и, забросив Эллен, мы плывем по бесконечной анфиладе комнат, как бы расположенных по одной стене некого несуществующего дворца в несуществующей Древней Греции. - «Клауд» требует смягчить меры по ограничению рождаемости, можешь вообразить? Говорят, для текущей популяции вопрос жилья решен, им некуда развиваться! И все клянчат, клянчат...
- Но ведь в жилье дело в последнюю очередь, - замечаю я. - А вода? А энергия? А пища?
- В следующий раз будешь моим адвокатом, - Шрейер показывает мне большой палец. - Но этих прохвостов интересуют только недополученные миллиарды. Говорю ему: мы с таким трудом загнали джинна в бутылку, не вздумайте даже поднимать этот вопрос! Хотите, я рекомендую вашу компанию нашим индийским коллегам? Отличный, перспективный рынок! Жаль, ты не видел, как он на меня уставился. И-индия? Разве там не радиоактивные джунгли? Именно, отвечаю я ему. Джунгли и пустыня там, где были Индия и Пакистан. Только потому что кто-то позволил людям размножаться бесконтрольно! Результат? Перенаселение, война с соседом за территории, оправданная религией, что, кстати, характерно, а потом, разумеется, ядерный конфликт и сто миллиардов жертв. Теперь эти джунгли осваивает Китай, потому что в мудром Китае все население поголовно подвергли кастрации еще двести лет назад, и эти двести лет у них - эра стабильности. А последние живые индусы у нас, в Барселоне...
- Были.
- Что? Ну да. А он знаешь, что мне говорит? Говорит, зато Индии есть куда развиваться! - сенатор смеется. - Ну разве не циничный подонок?
- Он деловой человек.
- Деловые люди совершенно бездушны, - сокрушенно качает головой Шрейер. - Миром правят не деньги. Миром правят эмоции. Поэтому, - подмигивает он мне, - будущее не за этими динозаврами, а за фармацевтикой. Из пяти новых членов, которых мы принимает в этом году в Партию, трое - акционеры крупных фармкомпаний. Будем получать антидепрессанты со скидкой. И, кстати, таблетки безмятежности! - он хлопает меня по плечу. - Послушай, - продолжает он тем же тоном. - Ты ведь избавился от той девчонки, а?
- Избавился, - отвечаю я.
Холодею, понимая: он знает, что в измельчителе ее останков не было, и наверняка ему показывали записи с вокзальных камер, а может, и с шпионских устройств у меня дома.
- Избавился, но позже. Там были какие-то люди, мне пришлось отвезти ее в Барселону, потому что...
Вроде я не собирался врать и оправдываться - и начинаю именно оправдываться и врать. Все сразу выстраивается у меня в голове: убил, но не в Европе, я решил отвезти ее в Барселону, потому что таково было ее последнее желание, нет, глупость, потому что там проще было уничтожить тело, так чтобы ничего не осталось...
- Не надо деталей, - он вздыхает. - Мне вполне достаточно твоего слова, Ян. Я тебе верю.
Мы молчим и просто мигрируем из комнаты в комнату - мимо прекрасных юношей и дев, смеющихся и счастливых, пирующих и любезничающих друг с другом.
- Рокамора, - как бы никому рассказывает Шрейер. - На него ведь работают исключительно талантливые взломщики. Стерли все его данные из базы... Теперь никто толком не может его опознать. А этот фарс с проектором Мендеса, с турболетами... - сенатор качает головой. - Зато он нескучный противник. Мендес, кстати, собирается выступать в Лиге Наций. Будет обвинять Партию в бесчеловечности и требовать отменить Закон о Выборе. Ну разве не кремень мужчина?
- Будет голосование? Нам это ничем не угрожает?
- Мендес? Нам?
Он похохатывает: отличная шутка. Отвечать на этот вопрос, видимо, нет смысла.
- Ты слышал, что сказал Максимилиан, так ведь? Последний раз новые лица появлялись тут несколько десятков лет назад, Ян. И, поверь мне, для меня представить тебя этим людям - важное решение. Тебя ждет блестящее будущее.
Мне неловко от всего этого: от моего несоответствия этим людям, этому месту, этой роли.
- Чем же я обязан? - спрашиваю я.
Сенатор смотрит на меня странно - как тогда, при первой нашей встречи, когда с него впервые сползла маска. На мой вопрос он не отвечает; кажется, он его и не слышал даже, да и размышлял вовсе не о том, что произносил вслух.
- Знаешь, Ян... - он кладет руку на мое плечо. - То, что я сейчас скажу - глупо, сентиментально и... И если кто-нибудь из Совета это услышит, может случиться скандал. Но...
Мы останавливаемся. Комната пуста. Смех еле доносится откуда-то издали. Воображаемый бриз шевелит рисованные ветви за фальшивыми окнами.
Шрейер сощуривается, долго не решается договорить.
- Ты знаешь, что мы не заводим детей. Вам, Бессмертным, запрещены отношения с женщинами... В Партии таких ограничений нет, но детей нам не дозволено. Не разрешено ни иметь, ни даже желать... Но...
Его уши становятся пунцовыми. Будто он мальчишка.
И вдруг сверху, звуковым потопом переполняя всю многокилометровую башню, утробно зовут могучие трубы - и перебивают его.
- Ты... Ты тот сын, которого у меня нет, Ян, - сконфуженно комкает Эрих Шрейер. - Которого не может быть. Прости. Пойдем, нас ждут.
Нет, погоди... Постой...
Что? Что он имел в виду?!
Но больше об этом ни слова; сенатор вихрем мчится вперед по переходам и помещениям, в которых я один непременно заплутал бы.
Я запутан, не могу ничего понять; спешу за ним, хочу одернуть, заставить договорить до конца!
Вдруг все, что случилось со мной с первой нашей встречи, перестает казаться мне случайностью; его внимание, его опека, его терпение, доверие, которое я обманул - и его готовность обманываться дальше...
Может, это не кредит, который он пытается мне всучить - а... Возврат давнего долга? Словно он когда-то давно потерял меня - а теперь нашел и не хочет больше отпускать от себя. Словно...
В Наос Шрейер вводит меня через небольшой боковой ход, в то время как остальные еще толпятся в дверях. Я тут еще не бывал. Бессмертных обычно допускают сюда только в качестве охраны.
Великий Наос - квадрат, вписанный в окружность башни, и длины в нем - многие сотни метров. Колонны вздымаются до самого небосвода - и подпирают его собою. Пол выложен мрамором - подлинным, сколотым и исцарапанным, старым. Мы ступаем босыми ногами по тем же плитам, которые три тысячи лет назад холодили ступни древних эллинов. Складывая храм из этого камня, они верили, что он станет прибежищем Афины, Аполлона или Зевса. И тут мы. Странное чувство.
Может ли это место быть моим?
Я ищу взгляда Шрейера - и тот улыбается мне - невесело, стесненно.
Снова трубят громогласно - не в те ли самые трубы, которые должны были возвещать Апокалипсис, но были пропиты отставленными ангелами и приобретены человеком за бесценок на барахолке? Не будет конца света. Мы пребудем на этой земле неизменно - отныне и во веки веков.
Зал заполняется молодыми людьми в хитонах. Их тут десятки тысяч, может, вся сотня; цвет Партии. Шестеро поднимаются на долгую трибуну, стоящую в глубине зала.
Шрейер гладит меня по руке - и оставляет в ближнем ряду. Его место - там, в Совете. Он седьмой из них.
Среди них нет верховного: все решения Совет принимает только сообща. И голос Эриха Шрейера, сенатора, весит не меньше других. Беринг скромно становится с края, середину отдают гордой и прямой Стелле Дамато, министру социальной политики. Рядом с ней - Нуно Перейра, глава Минкультуры. Франсуаза Понсар, образование и наука. Менно Ван Дер Билль - здравоохранение. Илиана Меир замещает спикера парламента.
Неважно, какая у кого из них должность сегодня. Все может поменяться. Все они равны между собой - но съезд Партии открывает сенатор Эрих Шрейер.
- Братья и сестры! - он выступает вперед, и шепот, которым был залит зал, утекает в мрамор. - Нам выпала честь родиться в великую эпоху! Стать первыми из людей, которые осуществили все заветы и мечтания наших бесчисленных предков. Они хотели одолеть смерть, тлен, забвение. И умирали, распадались! Из сотен миллиардов умерших мы помним имена лишь нескольких тысяч. От прочих не осталось ничего. Они и не жили, а промелькнули и сгинули. Смерть сожрала их. Пустота. Ничто.
Поднимаю взгляд... В Великом Наосе словно нет потолка. Над головой у меня, у всех нас - бездна. Черный космос, сияющий мириадами звезд. Рождающиеся сверхновые и издыхающие карлики. Скрученные спирали дальних галактик. Флюоресцирующие туманности. Задевает зал своим непостижимо огромным краем Солнце - алхимическая сковорода, переполненная кипящим золотом, и я вижу как лопаются пузыри протуберанцев... Что это? Камеры, установленные на Меркурии и Юпитере? Анимация? Вид из освободившегося офиса господа бога?
Космос и между колоннами - всюду вокруг, будто Великий Наос стоит на какой-то комете; тут ни гравитации, ни воздуха - но мне не хочется ни того, ни другого.
- Говорят, если бы муравьи умели передавать накопленное знание о мире следующим поколениям, - продолжает Шрейер, - планета принадлежала бы им - и человеку не нашлось бы на ней места. Но и человечество было подобно муравьям. Все, что творили, мыслили, чувствовали сотни миллиардов - все пропало бесследно, все было зря. Мы проходили одни и те же уроки снова и снова, мы строили Вавилонскую башню из сухого песка. Только вечная молодость сделала из нас, муравьев, людей. Ученые и композиторы прошлого дряхлели и глохли, едва успев постичь природу и тайны гармонии. Мыслители впадали в детство, и художники слепли, не успев создать величайших своих творений. Так называемым простым людям, загнанным старостью и смертью в кабалу детопроизводства, размножения, не хватало времени, чтобы задуматься о своей жизни, отыскать свой действительный талант и раскрыть его. Страх смерти делал нас вьючным скотом. Старость лишала нас ума и сил, лишь только мы набирались опыта. Мы не могли думать ни о чем другом, кроме того, как быстро уходит жизнь, и, зашоренные, вечно тянули ярмо, к которому была привязана наша могильная плита. Так было - недавно. И многие из нас еще помнят это время. Многим пришлось хоронить своих матерей и отцов, которые не дожили до освобождения всего чуть-чуть.
Великий Наос немо внемлет. Проворачиваются галактики над нами - беззвучно. Солнце-бог выходит из-за колонн, и лицо Эриха Шрейера озаряется алым.
- Освобождение! Бессмертие дало нам волю. После миллиона лет рабства! Пятьдесят тысяч поколений рабов должно было родиться и умереть! Мы - первые - живем в эру настоящей свободы. Никто больше не должен бояться не довести до завершения дело своей жизни. Нам - созидать! Нам - творить то, равное чему не было сотворено! Нам - испытывать все чувства, доступные человеку, и изобретать новые! Нам - менять лик Земли и нам - населять космос. Если бы Бетховен мог дождаться появления синтетического оркестра! Если бы Коперник мог дожить до межзвездных полетов... Мы - можем. Мы сделаем открытия, которые через тысячу лет изменят Вселенную, и мы сами увидим, какой она станет через тысячу лет благодаря этим открытиям!
Зал не может больше терпеть. Аплодисменты перебивают Шрейера на долгие секунды. Он останавливает их гром мановением руки, как средневековый святой, творящий чудеса.
- Это величайшее завоевание! Завоевание, говорю я, а завоевания не обходятся без жертв. Рожденные рабами тоскуют по кандалам и бесятся от этой тоски. Войны обреченных, Революция справедливости - Европе пришлось пролить немало крови, пока она стала такой, как сегодня. Континентом равенства. Континентом бессмертия. Континентом свободы.
Снова зал рукоплещет. И мои руки, закоченелые, отлитые из твердого композита, расходятся в стороны и ударяются друг о друга.
- Но борьба продолжается. Вы все знаете о предательстве Барселоны, об этой драме, которая сотрясла всю Европу. О той решительности, которую проявил Поль Беринг. Но вся его решительность ничего не стоила бы без героизма десятков тысяч Бессмертных, боевого авангарда нашей Партии. Без их мужества и их гуманности! Не нам - им - удалось - бескровно! - пресечь бунт, остановить хаос, который готов был сожрать Европу, уберечь стабильность и мир, сохранить наши завоевания!
Шрейер промачивает губы.
- Пятьдесят тысяч героев в масках вечно юного и прекрасного божества. Увы, этот зал не вместит их всех. Это отважные и скромные люди, они не ищут славы; не любят снимать свои маски. Но одного из них вы должны знать в лицо. Операция обошлась бы нашей верной Фаланге в тысячи жизней, если бы не он. Задача все равно была бы выполнена, но какой ценой! Этот человек проявил хитроумие и храбрость, достойную самого Одиссея. Он изнутри открыл нам врата в Барселону. Позволил нам войти в город беспрепятственно, и тем самым уберечь и головы несчастных бунтовщиков, и наших бойцов. Я прошу подняться на трибуну... Яна Нахтигаля, героя из героев...
Я усилием разгибаю заклинившие суставы и, шевеля ногами кое-как, продираюсь через овации, карабкаюсь по лестнице на трибуну, выхожу под испепеляющий столп света, падающего от софитов... Встречает меня - сам Беринг. Жмет руку - крепко, решительно. Говорит - и мне, и не мне:
- Ян Нахтигаль был ранен, но потребовал, чтобы ему позволили участвовать в операции наравне с остальными. Он имеет звание звеньевого, но сражался он как рядовой Бессмертный, забыв о званиях и привилегиях. Такие люди должны подавать пример остальным. Сегодня я назначаю Яна Нахтигаля тысячником Фаланги.
Что я чувствую?
- Спасибо.
- Спасибо вам! - Шрейер меня обнимает; касается благоухающей гладкой щекой моей щеки; остальные члены Совета кивают, улыбаются.
Ухожу, сажусь на свое место. Со всех сторон ко мне тянутся, поздравляют, норовят схватиться за мою зарубцевавшуюся ладонь.
Я - герой. Я - звезда. Я - тысячник. Я сам себе аплодирую.
Что я чувствую?
- Однако войти в Барселону было мало, - утихомиривает моих обожателей Шрейер. - Бунтовщики захватили и удерживали Теодора Мендеса, президента Панамериканской федерации. Что было бы, если бы президент Мендес погиб? Пропал без вести? Был ошибочно депортирован вместе с нелегалами в Африку? Получил инъекцию акселератора? Господин Мендес нас недолюбливает... Но это же не повод... Наверное... - лукаво улыбается сенатор - и зал сдержанно смеется.
- Если и есть человек, подвиг которого может сравниться с тем, что совершил Ян Нахтигаль, это тот, кто отыскал среди пятидесяти миллионов нелегалов взятого в заложники президента, принял бой с бандитами - и освободил его. Тем самым он сослужил Европе величайшую службу - и, будем надеяться, превратил господина Мендеса из нашего давнего неприятеля в возможного союзника. Безошибочный нюх, беззаветная преданность и безграничная храбрость - три главных качества Бессмертного. Этот человек проявил их все.
Нашел Мендеса, слышу я. Вот он - тот, кто расскажет мне все, как было!
- Братья, сестры... Я приглашаю на трибуну Артуро де Филлиписа. Человека, который спас президента Панама и мир между нашими державами! - Шрейер хлопает с таким энтузиазмом, что, того и гляди, отобьет себе ладоши.
Кто-то шагает по проходу, кто-то поднимается на трибуну - мне все равно. Жму чью-то влажную руку - ну что вы, не стоит! - поднимаю глаза.
Большие зеленые глаза, чуть приплюснутый нос, широкий рот и жесткие черные волосы. В его внешности нет ничего отвратительного - и все же среди прекрасных юных вождей Партии он смотрится уродом, чудищем. Они совершенны, без изъяна - а у него - мне это хорошо видно - отсутствует одно ухо.
Пятьсот Третий надевает перекошенную улыбку - выходит скверно. Свет софитов его не слепит. Он не глядит на меня - но я точно знаю, что он меня уже хорошенько разглядел, пока я жмурился на трибуне.
Что это?!
Шрейер трясет его руку, обнимает, благодарит. Пятьсот Третий раскован, как вурдалак в полдень. Следом за ним приходит черед обниматься Берингу.
- Артуро! Кто-то может сказать, что вам просто повезло. Что Мендеса мог обнаружить любой. Но не прояви вы упорства, самоотверженности, принципиальности - все могло бы сложиться иначе. Это не случайность, Артур. И этот подвиг венчает прочие ваши свершения. Позвольте поздравить вас с присвоением звания тысячника Фаланги!
Во рту пересыхает.
Не слыша аплодисментов, не глядя, как они будут лобзаться с этим упырем, я вскакиваю со своего места и выхожу вон. Стараюсь шагать маршево, чтобы это не казалось бегством.
Еле сдвигаю в сторону десятиметровой высоты створу входных дверей - вырываюсь, дышу, дышу, дышу.
Зачем он делает это со мной? Зачем эта грязная игра?! К чему мнимое усыновление?! Эти кривляния?! Интимное придыхание в сбивчивом шепоте?!
Возвысить меня прилюдно - чтобы я поверил уже его признаниям - и тут же поставить рядом со мной Пятьсот Третьего?
Пятьсот Третьего?!
Мне хочется плюнуть ему в лицо, плюнуть себе в лицо.
Я будто опять на испытании, Шрейер будто изнасиловал меня щупом с камерами и датчиками; мне хочется плакать и блевать.
В просторном холле пустынно и холодно.
Стоит, уставившись в стену, громадный Аполлон Бельведерский - тот самый, у которого мы украли его личность, растиражировали, и которой теперь прикрываемся во время наших погромов. Это не уменьшенная модель, которую высекли греки. Наш - в натуральную величину. Десять этажей высотой.
К ступне монумента спиной прислонилась девушка в белом хитоне. Кроме нее, в холле нет ни души.
И все же тут шумно.
Большие экраны ретранслируют новости основных каналов: на всех - съезд Партии. Везде прямой эфир. Сейчас показывают Пятьсот Третьего, а пятью минутами раньше всю Европу облетела моя потная физиономия, перекореженная от негаданного счастья.
Моя жизнь переменится.
Пришла всенародная слава.
Шрейер надел на меня маску, которую мне больше никогда не содрать со своего лица. Отныне меня будут узнавать в моем боксе, в поездах, в купальнях.
Теперь я не смогу притворяться кем-то другим. Мой арсенал поддельных имен и личностей теперь потерял смысл; всех можно отправлять в измельчитель.
Меня навсегда обязали быть тем Яном, который совершил великий подвиг, открыв Бессмертным ворота в Барселону.
Идиотский и бесполезный подвиг: газовая атака была запланирована с самого начала, до нее оставалось всего несколько минут, Бессмертные все равно попали бы в город беспрепятственно.
Подвиг?
Зато я теперь тысячник. Человеческое жалованье, человеческое жилье. Все, о чем я мечтал. Лифт с небес, который я так отчаянно-зло и так долго вызывал, наконец приехал.
Я подхожу к Эллен Шрейер, навязываю ей себя.
- Что? Поздравить вас? - произносит она без выражения.
- Ваш муж - мразь и лжец.
- Вы просто его еще плохо знаете, - Эллен растягивает губы.
- И я собираюсь ему об этом сказать.
- Зачем вы так! Как же ему дальше с этим жить? - она даже не потрудится замаскироваться.
- Мне вас жаль, Эллен. Жаль, что связались с этим монстром.
Она склоняет голову набок. Губы ее отверсты. Одно плечо обнажено.
- Жалость - худшее из чувств, которое я могла у вас вызвать.
Я беру ее за руку. Она не противится мне.
- Поедем, - говорю я.
- С одним условием, - она вскидывает подбородок.
- С любым условием, - я сжимаю ее пальцы сильней.
И через час мы вступаем в кабину с паркетным полом - из русского дерева, сто лет как окончательно иссякшего и потому чрезвычайно раритетного. Консьержа на месте нет - она отпустила его звонком; по пути нас не видит никто, кроме, конечно же, тьмы камер, которыми должен быть напичкан дом Эриха Шрейера.
Дверца лифта раскрывается, и мы оказываемся в светлой прихожей. Я нападаю на нее сразу же, но она отстраняется - и за руку ведет меня вглубь дома.
- Не здесь.
Тени складываются аккордеоном: арка - комната, арка - комната... Шевелят под потолком латунными лопастями вентиляторы, будто те самые пропеллеры, которые поддерживают этот летучий остров в облаках. Приятная прохлада; пахнет выдубленной кожей и книжной пылью, вишневым табаком и ажурными женскими духами.
- Куда? - шепчу я ей нетерпеливо.
Мы минуем вытертую тахту под золотым Буддой - Эллен дергает за ручку - и втягивает меня в спальню. Огромная супружеская постель, стены в коричнево-золотых полосах, резные деревянные панели; люстра - хрустальный фонтан. Все дышит добропорядочностью и преемственностью поколений. На комоде с каменной столешницей - объемный снимок: Эрих Шрейер обнимает свою красавицу-жену сзади, стоя у нее за спиной; оба сияют. Наверняка это фото побывало на главной странице какого-нибудь ресурса о привольной жизни знаменитостей.
- Вот мое условие, - говорит она, стаскивая платье через голову и становясь передо мной на колени. - Тут.
- Руки за спину, - отвечаю я ей глухо: голос сел. - Заведи руки за спину.
И она заводит; я связываю ее в локтях, туго - моя футболка трещит. Распрямляюсь. Эллен смотрит на меня снизу вверх. Какое хрупкое лицо: точеная переносица, брови-линии, детский подбородок, и глаза невероятно большие - но не изумрудные, как мне показалось, когда я ее увидел в первый раз. Изумруд крепок, а глаза Эллен Шрейер сделаны из тончайшего стекла.
Я вынимаю заколку из ее волос, и они рассыпаются по худым коричневым плечам, - жидкий мед. А потом собираю их в свой кулак - так, что она тихонько вскрикивает. Это мои бразды, Эллен. Она хочет еще изобразить себя хозяйкой - подбирается к моей застежке, но я отлепляю ее пальцы. Я все сделаю сам.
Я больше не буду хранить тебе верность, Аннели.
Расстегиваюсь, расправляюсь.
- Нет. Не так. Смотри на меня. В глаза смотри. Я сам.
Мне сейчас не нужны тонкости, не нужны ее куртуазные приемы. Даю ей пощечину - легко, но ей достаточно. Она ахает, а я берусь своими жесткими, окоченелыми пальцами за ее челюсть - все ее лицо в моей ладони - и давлю указательным и большим в ямочки на ее щеках. Она распахивает рот, и я погружаюсь в него, в нее, до упора. Эллен пробует изобразить удовольствие, пробует двигаться сама - но не попадает мне в такт. И тогда я просто зажимаю ее голову в тиски, превращаю ее в предмет, в станок, использую ее, применяю, насаживаю, отталкиваю, снова насаживаю - она кашляет, плюется, ее чуть не тошнит - но она смотрит мне в глаза, как ей было сказано. Не отводит взгляда ни на секунду. Я не слышу ее зубов, может, она тоже делает мне больно исподтишка - но я думаю, она слишком поглощена сейчас собой, чтобы думать обо мне.
Я проворачиваю Эллен так, чтобы мне было сподручней, чтобы попасть еще дальше, трусь о ее места, не предназначенные природой для соития - совсем мягкие, такие тонкие, что их, кажется, можно прорвать. Затыкаю ей глотку, она дергается - нечем дышать - и я отпускаю ее подышать на секунду. На секунду.
Вижу слезы в ее глазах - но косметика у нее влагостойкая, не смажется. Гладкие чистые щеки - все в слюне и в смазке, блестят. Поднимаю ее с колен, целую в губы. Потом толкаю на постель - со стороны господина Шрейера, если судить по прикроватным тумбам - лицом вниз, сам забираюсь сзади, усаживаясь голой задницей на сенаторскую подушку, сдергиваю, до колен приспускаю белую кружевную ленточку, в которой Эллен прячет свою голую маленькую промежность, шлепаю ее по распустившимся губам, макаю в нее пальцы, хватаю под живот и поднимаю к себе, назад.
Она уже простила мне нашу прелюдию - и сама ищет меня, дрожит нетерпеливо, просит о чем-то неразборчиво. Задница у нее крошечная, поджарая - не знаю, как Эллен вмещает в себя мужчин - но тем мне жадней до нее. Раздвигаю ее, надеваю на себя, пролезаю в Эллен - и обжигаюсь о нее. Она совершает какие-то маленькие неверные движения - приноравливается ко мне, может, а может, просто старается прикоснуться ко мне всеми своими кусочками, вспомнить о них, разбудить. Она слишком робко это делает, слишком чутко, будто забыла, для чего мы здесь, и лицо она зарыла в простыню, в скомканное одеяло - прячется от Шрейера, который с улыбочкой подслушивает ее стенания со счастливой фотографии.
Тогда я поднимаю ее повыше за волосы - так, чтобы Эрих все видел, раздвигаю, почти разрываю его Эллен, плюю в нее - и врезаюсь без спроса в трусливо подрагивающий коричнево-розовый ободок. Она выгибается, кричит в голос, старается освободиться, но я все время подтягиваю ее поближе, поближе, вворачиваюсь, внедряюсь в нее, разрабатываю, делаю своим. Улыбка у Шрейера присохла к губам, лицо окостенело. Эллен наконец решается посмотреть ему в глаза, а потом, не сводя взгляда, она перестает сжиматься, больше не пытается выдавить, прогнать меня из себя, обмякает, а потом просит освободить одну руку - и принимается - сначала стыдливо, а потом все настойчивей - тереть себя, расходясь, расходясь, и вот наконец она слышит мой ритм - и прислушивается к нему, и предаваясь тому, что только что было болью, подмахивает, подлезает под меня, и не кричит - визжит, тонко, протяжно, научившись все-таки отдавать себя, как женщине положено себя отдавать.
Эллен доводит себя до исступления раньше моего, но не перестает двигаться, даже когда я уже агонизирую, спохватываюсь поздно - и пачкаю ее всю - изнутри, снаружи, пачкаю их супружеское белье, пачкаю свои руки.
Она оглядывается на меня через плечо - и лижет мой палец - и озорно, но и выезженно. А я вытираю свои остро пахнущие ладони о ее волосы и смеюсь.
В ванной комнате - черный мрамор, стекло - Эллен немногословна.
- Это было глупо, - сообщает она мне.
- Это было необходимо, - возражаю я.
- Нам больше нельзя встречаться.
- Значит, мы больше не будем.
Она смотрит куда-то в сторону - и только совершенно случайно я перехватываю ее взгляд, дважды отраженный в стеклах душевой перегородки. Странное выражение: испуг? Разочарование? Но это двойное отражение, ему нельзя верить. Капли брызжут на стекло - и наваждение пропадает.
Я не помогаю ей вытираться.
- Тебе ведь грозит трибунал, если кто-то узнает... А мне... Выходит, мы теперь заговорщики... - зачем-то напоминает мне она.
- Мне все равно.
- Значит, бояться должна я одна?
Слышу кокетство в ее голосе, и слышу, конечно, ее желание быть разубежденной - и успокоенной, но не слышу ничего в себе. Что я чувствую?
Эллен запахивается в черный халат, и мы неспешно переходим из одной комнаты в другую.
Я свел свои счеты с тобой, Эрих Шрейер. Я больше ничего не чувствую ни к тебе, ни к твоей жене. Отстирывайте свои перекрученные простыни, делите имущество пополам и разводитесь. А я седлаю свободный астероид и отправляюсь к ближайшей черной дыре.
Мы снова в той комнате, с продавленной тахтой и огромным лицом жирного золотого Будды на стене.
- Почему ты от него не уйдешь? - спрашиваю я.
Она ничего не может объяснить, качает головой, ступает дальше.
В следующем помещении - полутемном, одна из стен задрапирована бархатным занавесом, остальные свободны, пятно света в углу - я нагоняю ее, ловлю за руку.
- Он ведь сидит на этих своих таблетках, да? Слушай, никаким романчиком на стороне тут ничего не исправишь! И я не тот человек, чтобы...
- Не надо! - она вырывается. - Пойдем отсюда. Не люблю эту комнату.
- Что? Да какая?..
Она морочит мне мозги, пытается захомутать или...
Пятно света в углу.
Подхожу поближе. От прохода его не было толком видно.
Внутри. Внутри этого пятна, как под лучом софита... Распятие.
- Ян?
Крест небольшой, с ладонь размером, из какого-то темного материала, весь несовершенный - кривовато сделанный, поверхность креста и пригвождённой к ней фигурки не гладкая, а будто состоит из тысячи крохотных граней. Будто ее не собирали по молекулам из композита, а вырезали, как в древности, ножом из куска...
Притрагиваюсь к нему - мчусь в первой вагонетке американских горок, делаю мертвую петлю, лечу вниз в пропасть.
Дерева. А на лбу у фигурки венец, похожий на кусок колючей проволоки - выкрашенный в позолоту.
Я знаю эту. Я эту. Я знаю эту статуэтку. Это распятие. Я его знаю.
- Что это? - я оборачиваюсь к Эллен. - Откуда это? Откуда - это?!
- Что? Что «это»?..
- Откуда тут это?! А?!
Не копия. Нет других таких. Это он. Он.
- Что это за комната?!
Озверелый, обнюхиваю все углы - берусь за бархатную портьеру, отдергиваю в сторону. За ней - стена. Вся целиком - от пола до потолка - отлитая из толстенного, непробиваемого стекла. Ровно напротив пятна с распятием.
- Я не знаю, что это... Не знаю, Ян... Клянусь, я...
Подхожу к стеклу, прижимаюсь к нему лбом, заглядываю внутрь.
Там маленькая спальня - чисто убранная, удивительно простая и бедная для этого дома, построенного специально, чтобы вместить все вообразимые излишества. Пустая и необитаемая. Пыль на стуле. Узкая кровать, заправленная строго. Взбитая перьевая подушка. Дверь без ручки. И ни единого окна, поддельного или настоящего, кроме этого окна-стены, единственный вид из которого - на пятно света с маленьким распятием из моих снов.
С распятием, которое принадлежало моей матери.
Хочу забрать его, хочу взять его в руки - и не могу даже притронуться.
- Откуда он это взял?!

Она вызвала охрану.
Я не собирался ничего ей делать, мне было надо только, чтобы она сказала мне правду, сказала, что знает. А она только мямлила что-то, мямлила и хныкала, я никак не мог добиться от нее того, что мне нужно было услышать. Да я и не бил ее - саданул раз наотмашь, ладонью по щеке, опрокинул ее на пол - и все. Все.
Эллен дала мне сбежать: лифт пришел пустым, консьержа на месте не было. Но если она передумает, меня все равно разыщут где угодно. Так что я не прячусь - я еду к себе домой. Еду и смотрю на распятье, которое я оставил у Шрейера дома, и которое продолжает висеть у меня перед глазами.
Кто такой Эрих Шрейер? Кем мне приходится его жена?!
Я выясню это. Так или иначе я это выясню. Приступом или хитростью, шантажом или разговором по душам. Выясню, почему сенатор ломает гнусную комедию, нарекая меня своим сыном, почему трезвонит мне через секунду после того, как я запрашиваю данные на свою мать, и почему у него дома хранится этот гребаный крест.
В конце концов, я теперь тысячник, напоминаю я себе, открывая дверь в свой куб. У тысячников есть свои привилегии.
Ззззз.
Все происходит так стремительно, что я ничего не успеваю понять. Просто слышу жужжание шокера - всего один миг - все тело выгибает судорогой, боль дикая, а потом с головой бултыхаюсь в муть.
Проделываю прорезь в сросшихся веках, медленно расширяю ее.
Череп раскалывается. Сколько времени прошло?
Я лежу на своей кровати, руки и ноги мои связаны, рот склеен кажется скотчем - не открыть. Свет погашен, только горит приглушенно заставка домашнего экрана: тосканские холмы ранним летом.
В ногах у меня сидит человек в маске Аполлона и черном балахоне.
- Проснулся, малыш?
Я узнаю его мгновенно, хотя оторванное ухо и спрятано под капюшоном.
Рвусь всем телом - лягнуть его связанными ногами, боднуть головой - но вместо мышц у меня замороженный фарш, и я тюфяком падаю на пол. Лежу лицом вниз, мычу, извиваюсь, стараюсь разорвать несколько раз обмотанную вокруг моих запястий изоленту, прогрызть дыру в скотче, который воняет какой-то дешевой химией.
- Ты смешно дергался, - говорит мне Пятьсот Третий. - Я бы тебя еще раз приложил, но поговорить охота.
Ты пожалеешь, кричу ему я. Ты не смеешь врываться в мой дом! Нападать на другого Бессмертного! На тысячника! Тебя ждет трибунал! Мразь! Ублюдок! Мы больше не в гребаном интернате!
Но все мои вопли остаются у меня во рту.
- Давно пора было повидаться. Последний раз скомкано как-то получилось, а? А нам ведь поговорить нужно.
И что-то есть в его голосе жуткое, такое, что я выжимаю из своего мороженого мяса все, кручусь веретеном и кое-как переворачиваюсь на спину - только чтобы видеть, что он там делает.
- Не ссы, - говорит мне Аполлон. - Я не за этим. Ты мне больше не нравишься.
Вжик - Пятьсот Третий расстегивает рюкзак - черный, простой, такой же, как у меня. Достает наш инструмент. Сканер. Инъектор.
- Детская любовь прошла, - хмыкает он. - Ты стал взрослым и уродливым. Тысячником стал. Так что разговор у меня к тебе будет деловой.
Он подсаживается поближе, наступает рифленой подошвой мне на горло, придавливает - а сам рвет мне рукав. Оголяет мое запястье!
Он не может! Не может! Если кто-то узнает... Если я доложу Шрейеру... Берингу... Ты не имеешь права, тварь!
Он проверяет инъектор - заряжен; приставляет жало к вене. Я дергаюсь - отчаянно, нелепо, бессильно. Убери это, подонок! Гнида! Выродок!
- С дикцией у тебя не очень, - забавляется он. - Но я тебя и так хорошо понимаю. Не имею права, а?
Киваю ему остервенело из-под его ботинка.
Вот так просто прийти ко мне - и вколоть мне акселератор?! Нет. Он блефует! За такое - точно трибунал! Я тебя в измельчитель отправлю! Сам буду кнопку жать! Тебя разотрет в пыль, в пасту, понял, мррразь?!
Пятьсот Третий давит чуть сильней; кадык мнется, в глазах темнеет, я уже трепыхаюсь, а не рвусь - и он приотпускает меня.
- А вот имею, малыш. Имею. Невероятно, но факт.
Он берет сканер, приставляет его к моей руке. Динь-дилинь. Комариный укус.
- Ян Нахтигаль 2Т, - произносит сканер. - Зарегистрирована беременность.
Пятьсот Третий щелкает пальцами: на руках у него тонкие перчатки.
- Невероятно, но факт, - повторяет он.
Комната становится размером с мою голову - съеживается на мне, будто какое-то древнекитайское устройство для пыток, размоченный в воде кожаный мешок, который на глазах сохнет, съеживается, облепляет меня и удушает.
Я парализован, словно Пятьсот Третий еще раз прошил меня шокером.
Зарегистрирована беременность, повторяю я про себя. Про себя.
Ложь!
Ложь! Такого не может быть! Как?!
- Как? - спрашивает за меня Пятьсот Третий. - Вот и мне интересно. Как? Герой освобождения Барселоны! Тысячник! Как?!
Он подстроил это как-то! Сканер взломан, перепрошит! Пятьсот Третий ищет способы... Повод... Но почему?.. Почему ему просто не удавить меня тут?... Зачем?!
Пришибленные шокером нервные окончания оправляются постепенно - руки и ноги становятся моими. Надо выждать... Выждать и... Захватить его шею... Сжать коленями. Будет всего одна попытка.
- И кем зарегистрирована беременность? - спрашивает Пятьсот Третий.
- Аннели Валлин 21Р, - отвечает ему сканер.
- Та-дам! - поет Пятьсот Третий. - Сюрприз!
Аннели?! Аннели?!
Это обман, этого не может быть, она ведь пустая, бесплодная, на моих глазах все...
- Анализ ДНК на установление отцовства, - приказывает Пятьсот Третий сканеру, снова прижимая прибор к моей руке.
Расчет занимает секунду.
Что бы там ни проскрипела ему чертова машинка, все это незаконно, он не мог врываться сюда без вызова, он обязан был привести с собой звено, свидетелей, это произвол, со мной нельзя как с простым смертным, нельзя!
- Подтверждена генетическая связь с плодом.
- Согласно пятому пункту Закона о Выборе, при своевременной регистрации беременности женщина имеет право записать будущего ребенка на себя или на отца этого ребенка, если тест ДНК подтвердит отцовство, - цитирует Пятьсот Третий. - Как раз наш случай.
Ложь! Это все ложь! Махинации!
- А согласно пункту пять-три, в случае, если ребенок записывается на отца, инъекция акселератора делается отцу. Все правильно?
Нет! Не смей этого делать! Убери это от меня!!!
- Ммммм!!!
- Все правильно, малыш. Я и сам знаю.
И он вжимает кнопку.
Меня жалит снова - не больно, почти незаметно, я не успеваю уместить произошедшее в голову. Он отступает - а я выгибаюсь, катаюсь по полу, силюсь лягнуть его, мотаю головой - сопротивляюсь тому, что уже случилось.
- Ну вот, - говорит мне Пятьсот Третий. - Вот теперь мы с тобой квиты. Мир?
И он с короткого замаха пинает меня бутсой в челюсть - зубы скрипят и колются, язык чавкает в горячей ржавчине, в глазах замыкание. Мычу, пытаюсь спрятаться под кровать, перебираю языком костную крошку, глотаю кровавые сопли.
А Пятьсот Третий находит меня, поднимает маску, щекочет меня своими зелеными глазами, склоняется надо мной, прижимает локтем мою голову к полу и жарко шепчет мне в ухо:
- Ну шшшто, глиссста? Прощаешь меня теперь? Ты-то думал, все по-другому будет, а? Думал, больше не увидимся, а, паскуда? Ничего... Ничего... Я бы тебе свернул шею, но ты, говно, не заслуживаешь такого... Ты же хорошшший, да? Прааавильный... Я сейчас уйду... А ты живи себе дальше... Ходи на службу... Рапортуй об успехах... Ты не ссы, я никому не скажу, что ты уколотый... Я долго этого ждал, понимаешь? Херову прорву времени этого ждал... И я теперь хочу удовольствие растянуть... Посмотреть, как ты будешь закрашивать седые волосики... Как морщины убирать будешь... Как будешь врать своим папикам из Партии... Начальничкам... Как будешь сстареееть, развааааливаться, как будешь стесняться раздеваться при своих в борделях... Как ты карьеру делать будешь, глиста... И дохнуть меееедленно... Вот будет номер, а? Но только ты тоже никому не рассказывай, чур! Это будет наша с тобой тайна: что ты блядун, счастливый отец и что ты стареешшшь. Только ты тоже не говори никому... Если тебя раньше времени в измельчитель ссунут, я растроооюсь....
Собираюсь - и, дернувшись, молочу его виском в нос. На меня капает горячее: кажется, разбил.
- Сучка... - гундосо смеется он и пинает меня между ребер. - Вот сссучка... Знаешь, что? Не буду его править. Это как ухо. Чтобы не забывать про тебя. Когда сдохнешь - тогда и отремонтируем.
Пятьсот Третий хватает меня за уши двумя руками, рвет с хрустом, переворачивает лицом кверху. Проводит указательным пальцем у себя под носом - там все черно и блестит от свежей крови - и мажет ей, как чернилами, на изоленте, которой заклеен мой рот.
- Вот. Теперь ты снова мне нравишься. Как в детстве.
Он забрасывает в рюкзак свой сканер, инъектор, маску.
Гундосо ржет - пускает расквашенным носом красные пузыри - и хлопает дверью. Я остаюсь один, на полу, полоскать рот кровью с осколками зубов, щупать языком сколотые острые края, сучить ногами и нашаривать непослушными пальцами прилипший край изоленты. Думать об Аннели. О том, возможно ли все, что сказал Пятьсот Третий. О том, за что эта сука меня предала. Записать выблядка на меня - чтобы сбежать с Рокаморой? Ведь если бы она была мертва, мне не пришлось бы сейчас кочевряжиться на полу со вколотым акселератором!
Или это блеф? Вся история - блеф? Просто он решил заставить меня обгадиться! Зарядил инъектор какой-то дрянью, прочитал мне выдержки из Закона, отутюжил - и все! Шутка!
А? Может, так? Может, ничего и не поменялось? Можно, я буду жить, как жил?
Ты не могла забеременеть, Аннели! Ты же не могла от меня залететь! Я сам слышал, как твоя мать твердила тебе, что твои внутренности отбиты и умерли! Вы обманули меня? Это сговор?!
Она не могла забеременеть!!!
Я дергаюсь, дергаюсь, пробую сесть. Не выходит. Не получается оторваться от пола, дать команду домашней системе, вызвать скорую или полицию.
За что?!
Верчусь, верчусь, пока не истрачиваю на это себя всего, а потом ухожу в штопор, смотрю темноту. Попадаю в интернат. Во снах я всегда попадаю в интернат; может, потому что я не должен был из него выйти.
В последний год нас перестают мучить и дрессировать: в конце нас ждут выпускные экзамены, и от нас требуется только учиться. Те, кто не сдаст хоть один, останется на второй год, попадет в чужую десятку к необученной злобной мелюзге. Те, кто сдаст, подвергнутся последнему испытанию. Говорят, оно простое. Не сложней звонка. Не сложнее, чем вызубрить историю Европы от Римской империи до победы Партии Бессмертия, чем выстоять три боя в боксе и три поединка в борьбе. Но экзамены можно пересдавать бесконечно, а испытание разрешается пройти только единожды. Завалишь - не выйдешь отсюда никогда.
С того дня, как Седьмого забрали, его место пустует. Дыру заделывают только в первый день последнего нашего года: приводят новичка.
- Это Пять-Ноль-Три, - представляет нам его вожатый. - Три года подряд не может сдать язык и алгебру. Надеюсь, у вас он почувствует себя как дома. Не обижайте его.
Зевсовы смотровые щели обернуты ко мне, и ясно слышна ухмылка, спрятанная за склеенными губами композитного бога.
Пятьсот Третий - ему восемнадцать - вдвое шире меня в плечах, его руки бугрятся, как обожравшиеся питоны, откушенное ухо залито лиловой краской и кажется каким-то другим органом, нечеловеческим, странным и неприличным.
- Привет, глиста, - говорит он мне.
Три года прошло с того дня, как меня выпустили из ящика. Все это время Пятьсот Третий притворялся, будто смертный приговор, который он мне вынес, отменен или отсрочен. Его прихвостни игнорировали меня, ему самому я вообще на глаза не попадался. Я знал, конечно, что у Пятьсот Третьего неладно с экзаменами: каждое первое построение нового учебного года я искал его среди старших. Вся его десятка выпустилась, а он застрял. И так - еще дважды, пока мы не сравнялись.
Вожатый отчаливает.
- Кто у вас тут пахан? - спрашивает Пятьсот Третий у остальных, не глядя ни на кого.
- Ну, я, а че? - вызывается Триста Десятый - и хватается за разбитую губу.
Кровит сильно - прямо сквозь пальцы льется, этого вполне достаточно, но Пятьсот Третий еще и всаживает ему промеж ног коленом.
Девятисотый - он крупней Пятьсот Третьего, но рыхлый - пытается отвесить ему медвежий тяжелый и неуклюжий удар, Пятьсот Третий перехватывает его руку и заламывает ее до хруста.
- На Семь-Один-Семь равняйтесь, гниды, - он вытирает перемазанные в кровавых соплях костяшки о свои портки. - Знает меня. Знает, что если кто на меня пасть разинет, тому хана. Так, глиста?
И - при всех - сквозь ткань хватает меня за яйца. Жмет в своих стальных пальцах, боль такая, что вот-вот затмение наступит, руки виснут, нервы пилят зубастой пилой, стыд жжет.
- Так! Так! - визжу я.
- Что такой печальный? Улыбайся! - говорит он мне, оскалившись, сдавливая мою мошонку так, что оба яйца вот-вот лопнут. - Я же помню, какой ты веселый!
И я улыбаюсь.
- А ты че вылупился? - Пятьсот Третий отвлекается от меня, дает Девятьсот Шестому пощечину - слабую, как ребенку, просто чтобы унизить. - Хочешь, будешь моей куклой?
Сто Шестьдесят Третий бросается на него - но тот втрое кряжистей, и силы в его руках-питонах только прибывает от каждого сбитого наземь, от каждого сожранного. И вот Сто Шестьдесят Третий сипит, лежа на полу, держась за горло. Остальные сникают, отворачиваются от своих, бормочут что-то.
Так Пятьсот Третий становится нашим паханом. Так начинается мой последний год в интернате. Главное - доучиться, главное - сдать экзамены. Год всего перетерпеть - и выбраться отсюда, и больше никогда в жизни не видеть эту тварь.
Всего год.
Так я думаю, пока старший вожатый не объясняет нам суть заключительного испытания.
- Интернат за эти годы стал вашей большой семьей, - диктует он, выстроив перед собой все десятки, которым предстоит выпускаться. - Вы отреклись от преступников, которые называли себя вашими родителями. Неужели вы теперь останетесь одни? Человеку тяжело жить одному во внешнем мире! А? Не стоит бояться. С вами всегда будут самые близкие люди. Парни из вашей десятки. Интернатские десятки становятся звеньями Фаланги. Вы всегда будете драться бок о бок. Всю жизнь. Помогать друг другу в беде, делить радость. Женщин, - он тянет это слово, и не спешит продолжать, зная, какая сила у этого обещания. - Женщин будете делить на всех. Но, конечно, никто не захочет быть на всю жизнь связанным с человеком, который ему не нравится. Интернаты устроены справедливо, как и Фаланги. Вы должны быть всегда уверены в парнях из вашего звена. Всегда. Последнее испытание такое: когда вы сдадите экзамены, каждый из вас должен будет мне сказать, все ли в его десятке должны выйти отсюда. Если против кого-то будет хоть один голос, такой человек останется тут навсегда. Проще некуда, а? Считайте это игрой.
Проще некуда: мы все теперь в заложниках у Пятьсот Третьего. И у меня нет никаких шансов отсюда вырваться - если только я не буду его ублажать.
- Кто у вас умник? - харкает он, собрав нас в коридоре перед сном. - Будет меня учить сраному языку и сраной алгебре. За это убережет свою задницу. Ну?
Тридцать Восьмой тянет руку. И Сто Пятьдесят Пятый тоже. Один хочет сберечь задницу, другой примазаться к пахану.
- Одного достаточно. А ты, - Пятьсот Третий наматывает ангельскую платиновую кудрю на заскорузлый палец, - ты мне для другого пригодишься. И еще ты, - он трубочкой вытягивает ко мне свои губы.
- Да пошел ты.
Удар такой скорости, что боль не успевает за ним: сначала меня швыряет на землю, мир летит кверху тормашками, и только потом нагоняет тяжелое гудение в голове.
- Недоволен чем-то? А? - орет на меня Пятьсот Третий, круша мне ребра. - А ну, улыбайся, говно! Улыбайся! Улыбайся!
И я улыбаюсь.
Улыбаюсь, когда он при всех раздевает Тридцать Восьмого и заставляет его на карачках ползать по душевой - потому что Пятьсот Третьему кажется, что мне недостаточно весело. Улыбаюсь, когда учу его истории.
- Мне нравится твоя улыбка, - говорит он мне. - Я хочу видеть вокруг себя счастливые лица, глиста, а ты вечно с кислой харей. Улыбайся чаще.
Мне некуда деваться от него. Нам всем от него некуда деваться. Это ведь наша собственная десятка. Наше будущее звено. И Сто Пятьдесят Пятый учит его языку, и Тридцать Восьмой обслуживает его, и Триста Десятый прячет голову в песок, и Девятьсот Шестой прячет себя-настоящего в себя-футляр. А я улыбаюсь.
Он учит меня улыбаться, когда я в бешенстве. Улыбаться, когда мне страшно. Когда меня тошнит. Когда мне хочется сдохнуть. Когда я не знаю, куда себя деть. Работает надо мной упорно один месяц, другой, третий, и я вырабатываю помаленьку новый рефлекс. Наша учеба идет успешно, пока он не придумывает кое-то новенькое.
- Расскажи-ка мне, как тебя забирали из семьи, - просит он меня как-то перед отбоем. - А то скучно. Про мамку расскажи, про батьку.
- Пошел ты.
И он выволакивает меня в коридор; вожатых, как нарочно, нет. Пятьсот Третий держит меня за волосы, и хлещет по щекам - раз! раз! раз! - приговаривая:
- У тебя от меня секретов быть не может, глиста! Ты забыл? Забыл, что приговор тебе вынесен еще когда? Все будешь делать, все говорить. Понял? Все!
- Понял!
- Что грустный такой? - он лупит меня все сильней, все смачнее. - Улыбайся! Ты же раньше улыбчивый был! И помни: ты отсюда никогда не выйдешь. Ну? Улыбайся!
Я не смогу его задобрить. Не вымолю у него прощения. Не выращу ему новое ухо вместо сжеванного. Он освободится из интерната, а меня оставит тут на веки вечные.
Один я с ним не справлюсь - и мне не с кем вступить в заговор. Он раздробил нас, унижая по отдельности и вынуждая каждого искать с ним сепаратного мира.
И я иду к Девятьсот Шестому.
- Больше не могу.
- Я тоже, - ему не нужно ничего объяснять.
Он дружит с Триста Десятым, у меня остались еще связи с Тридцать Восьмым; Двести Двадцатый, стукач, который меня ему сдал, теперь не в фаворе - он должен щекотать пахану пятки перед сном, другого применения ему Пятьсот Третий искать не хочет - и стукач оскорблен. Триста Десятый приводит Девятисотого, у того свои обиды с первой встречи. Сто Шестьдесят Третьего я вербую сам. Он рвется мстить; лишь бы не выдал нас раньше времени. Остальные приходят сами.
Мы распределяем роли: Тридцать Восьмой заманивает Пятьсот Третьего на свидание, Девятьсот Шестой стоит на стреме, Триста Десятый командует операцией.
Мы бросаемся на нашего пахана отважно - ввосьмером, в сортире, и избиваем его дико, страшно. Ломаем пальцы, рвем хрящи, лупим по ребрам, по почкам, по лицу, бросаем подыхать на полу.
Когда вожатые пытаются узнать, что случилось, нас оправдывает Двести Двадцатый. Ему верят: в конце концов, он исправно закладывал им нас долгие четырнадцать лет.
В лазарете Пятьсот Третий срастается медленно. Выползает оттуда через полтора месяца, искореженный. Сходу кидается на меня. Есть у него это звериное чутье.
Но за это время мы стали тем самым, что пытался выплавить из нас старший вожатый. Больше, чем десяткой. Больше, чем будущим звеном.
Семьей.
За меня вступаются все. Пятьсот Третьего изничтожают, размазывают, и он снова проваливается в санчасть. А когда возвращается к нам - еще через полтора месяца - его не узнать.
Он больше даже не пробует никого задирать. Молчит, отгородившись учебником, торчит в кинозале, держится особняком. Мускулы его за три больничных месяца атрофировались, пропал весь гонор, глаза потухли. Он только зубрит уроки - отчаянно, один.
Когда все вроде забывают, каким Пятьсот Третий был раньше, он просит у Триста Десятого собрать нас.
- Пацаны, - глухо и коряво как-то произносит он, уставившись в угол, скособоченный, безухий. - Я сам во всем виноват. Я вел себя, как мразь. Как выродок. У вас тут своя десятка. Свои правила. Не хер мне было к вам лезть командовать. Короче, я неправ. Прошу вас, пацаны, извините. Вы мне дали урок. Я усвоил. Реально.
Все молчат, и никто не хочет даже посмотреть на него: каждому понятно, к чему эта канитель. До испытания - месяц. Если Пятьсот Третий каким-то чудом сдаст экзамены, его шкура в наших руках.
- Да пошел ты, - говорю ему я.
Он моргает, проглатывает - но не отступается.
Подходит к каждому. Извиняется. Уговаривает. Клянется. Сулит. Вымаливает извинение - и голос - у Триста Десятого, у Сто Пятьдесят Пятого, даже у Тридцать Восьмого. Зовет меня.
- Слышь, - хромает он за мной по коридору. - Семь-Один-Семь! Погоди! Да постой ты! Ну? Ну пожалуйста!
Я разворачиваюсь, встречаю его.
- Я правда реально извиняюсь. Я говно. Но и ты тоже - сам знаешь, что со мной сделал! Всякое бывает, ну? Интернат же! Все как звери. Ты, я... Мир? - Пятьсот Третий протягивает мне руку.
Я ему улыбаюсь.
Он не отчаивается - пристает к Девятисотому и к Девятьсот Шестому, к Сто Шестьдесят Третьему, к Двести Двадцатому... Все разговоры в нашей десятке - о нем. Простить?
- Ты правда не выпустишь его? - шепчет мне однажды Триста Десятый.
- Он тут сдохнет.
- У него ведь тоже голос. Такой же, как у нас. Он может нас всех тут оставить. Всех. Прикидываешь? Навсегда. А нам всего месяц до воли.
- Ты с ним что, хочешь всю жизнь в одном звене?!
- Нет! Я - нет.
- Забыл, как он тебя метелил? А? Или тебе понравилось?!
- Хер там, - хмурится Триста Десятый. - Но ты пойми... Он же мог нас это... Шантажировать. А он просит, уговаривает, унижается...
- Да хоть бы и отсосал!
Закрыли тему.
За две недели до экзаменов Пятьсот Третьему удается уболтать почти всех наших; с ним снова разговаривают, пускают за общий стол. Он не борзеет, во всем оглядывается на Триста Десятого, нашего справедливого короля, в мою сторону посылает сигналы повинные и смиренные.
- Прости его, - говорит мне Девятьсот Шестой. - Прости.
- Отвали, - я сбрасываю его руку со своего плеча. - Он и тебя купил?
- Я ради тебя. Ты мой друг. Тебе легче будет.
- Легче мне будет, когда он околеет, ясно? Жаль, мы не до смерти его ухайдокали!
- Послушай, - Девятьсот Шестой останавливает меня. - Он же живой человек. Идиот, злыдень, изврат - но живой человек. Как его тут оставить? Навсегда? Тут никого оставлять нельзя...
- Это я живой человек! Я! А он мразь!
- И ты тоже живой. Себя же ты прощаешь?
- Ты же не знаешь, что было! Что было, когда я бежать пытался! В лазарете...
- Знаю, - качает головой Девятьсот Шестой. - Мне пацаны рассказывали. Ты просто пойми... Ты можешь этому конец положить. Он тебе руку протягивает.
- Ты добренький, а? Всех прощаешь! Мать, этого... Твое дело! Но как только эта гадина отсюда вырвется, - мне трудно говорить, дыхание обрывается. - Как только он переступит порог... Он нас всех сожрет. И меня первым!
- Не сожрет... Не думаю. Если его все простят, понимаешь? Если все отпустят. В нем уже щелкнуло что-то. Он не тот.
- Пусть хребет у него щелкнет. Тогда и я с ним поговорю.
- Ты не для него это сделай! Ты себя отпусти! Как тебе с этим жить-то потом?
- Сладко. Слаще некуда, - и я сплевываю.
Наваливаются экзамены.
Я почти все сдаю на «отлично», всего на один балл отстаю от Триста Десятого, нашего рекордсмена. Девятьсот Шестой валяет дурака, но все же наскребает на освобождение, остальные болтаются где-то между нами.
Пятьсот Третий совершает невозможное.
Алгебра и язык сдаются ему так же, как сдалась вся наша десятка. Он даже не самый худший среди нас. Когда объявляют результаты экзаменов, он весь лучится от счастья. Я смотрю на него - и улыбаюсь. Он, забывшись, улыбается мне в ответ.
И снова подкатывает со своей протянутой рукой.
- Правда, Семь-Один-Семь... Мир, а? Мир? Забыли, и все! Ты меня освобождаешь. Я - тебя. Так наружу хочется! Выйдем, а? Вместе выйдем! Чего тут оставаться? Ну? Прощаешь меня? Мир?
Вот она, его рука. Та, которой он себя тискал, пока меня рубахами душили. Та, которой он меня по щекам хлестал. Та самая.
- Мир, - выдыхаю я. - Мир.
- Во! Во-оо! - он хлопает меня. - Нормальный ты пацан! Я ж знал!
Я его не слушаю: все пытаюсь понять, где оно, то облегчение, которое мне обещал Девятьсот Шестой. Нет его.
Наступает день, когда мы думаем, что все позади.
Вожатые сажают всю нашу десятку в лифт; оказывается, имеются тут все же другие этажи - просто нет кнопок, которые позволили бы туда отправиться. Так уж устроены лифты; знать бы наверняка это раньше.
Все уже почти верят, что нас выпускают, пихаются локтями и перешептываетесь восторженно; впереди - жизнь! И почти уже любят вожатых - за то, что больше никогда их не увидят, и наконец чувствуют себя братьями со всеми своими, из десятки... Потому что мечта выбраться скрепила, склеила нас в одно.
Лифт едет - то ли вверх, то ли вниз, долго, медленно - и вдруг прихватывает ужас. А что, если это обман? Что, если вместо обмена голосами привезут сейчас в зал такой же стерильный, легко моющийся, ослепительно ярко освещенный, как операционная, как весь прочий интернат? Что, если ждут там десять столов с ремнями и подголовники с зажимами?
Да, говорят, что прошедших испытание отправляют в мир. Но почему это должно быть правдой? Разливают нам просто черпаком по пластиковым мискам мечту-баланду, дают в зубы одну засохшую горбушку внятной и достижимой цели на каждого. Мечтателями управлять проще: мечтатели считают, им есть, что терять. С тем, кому ничего не надо, торговаться нельзя. Не выпустят нас, никогда не выпустят, просто мы становимся слишком взрослыми, чтобы оставаться с малолетками в одних бараках, и нас переводят на новый уровень. На следующие десять лет.
И вдруг приходит в голову, что этих этажей, для которых нет кнопок, в интернате может быть не один, а еще три, или тридцать, или триста. И уходят они не в вышину, не на поверхность, а вглубь...
Но открываются двери: нет операционной, нет пыточной.
Лифт вывозит нас на уровень, о котором никто не слышал. Колонный зал, весь облицованный черным камнем, освещен настоящими факелами. Посередине от стены до стены его пересекает ров глубокого бассейна с темной водой.
По один берег рва - старший вожатый и еще девятеро в масках Зевса. По другую - незнакомые фигуры: провожатые в тот, настоящий мир - ждут.
Осталось проплыть через темную воду.
Осталось пройти последнее испытание.
Мы становимся кругом в численном порядке и берем друг друга за руки: я между Пятьсот Восемьдесят Четвертым и Девятисотым. Согласно правилам, которым мы были заранее научены, произносим дробным хором:
- Нет никого ближе для брата, чем брата. Нет другой семьи для Бессмертного, чем Бессмертный. Те, с кем уйду отсюда, будут со мной всегда, и я всегда буду с ними.
Старший кивает нам важно.
- Три-Восемь! - басит он. - Есть ли среди твоей десятки такой, кто не должен покинуть интернат, кто не достоин пополнить великую Фалангу?
- Нет, - лопочет Тридцать Восьмой, то и дело сбиваясь глазами на Пятьсот Третьего.
- Один-Пять-Пять! Есть ли среди твоей десятки такой, кто не должен...
Нет. Для доброго Сто Пятьдесят Пятого таких людей нет. И для Сто Шестьдесят Третьего - он мотает головой так, что, того и гляди, отвалится. Так идет по кругу, по порядку - наступает черед спасшего нас от вожатых стукача Двести Двадцатого, потом - отличника и нашего будущего звеньевого Триста Десятого.
- Пять-Ноль-Три! - оборачивает свою огромную голову на нашего мятежника сатану композитный бог. - Есть ли среди твоей десятки такой, кто не должен покинуть интернат, кто не достоит пополнить великую Фалангу?
Пятьсот Третий отвечает не сразу. Осматривает-просвечивает зелеными глазами тех, кто идет по порядку после него, кто еще не даровал ему прощения. Дольше других - меня. Я его взгляд выдерживаю. Улыбаюсь ему спокойно: все в силе.
- Нет, - хрипло произносит Пятьсот Третий, понимая, как выскальзывает из его рук последняя власть - расставаясь с ней нехотя, по принуждению; и потом повторяет еще раз, словно ему кто-то давал возможность передумать. - Нет!
Бородатый бог кивает ему буднично, и ход переходит к ушастому онанисту Пятьсот Восемьдесят Четвертому.
- Нет, - отвечает тот.
- Семь-Один-Семь! - теперь в меня вперился не только Пятьсот Третий, а каждый из десятки; Пятьсот Восемьдесят Четвертый выкрутил свою тонкую шею с ушастой башкой как мог далеко, Девятисотый повернулся все корпусом. - Есть ли среди твоей десятки такой, кто не должен покинуть интернат...
- Да. Да.
- Сука! Сука! Предатель! - вопит Пятьсот Третий, не дожидаясь, пока я поименую его, выдергивает свой кулак из потной ладошки Пятьсот Восемьдесят Четвертого и бросается на меня.
- Держать! Деррржать! - ревет старший, и трое вожатых сминают Пятьсот Третьего в мгновение ока; он даже не успевает меня задеть. - Кто же это? Назови номер.
- Пять-Ноль-Три! - запыхавшись, выговариваю я.
- Предатель! Мы с тобой сочтемся! Выродок!
- Тебе известно, что тот, кого ты назвал, навсегда останется в стенах интерната? - уточняет бородатый бог.
- Да!
- Он меня обманул! Он меня обманул! Пацаны! Кто-нибудь! Зачем вам такая гнида?! Оставьте его мне! Тут! Девятисотый! Девятьсот Шестой! Ну? Одно ваше слово! Оставьте эту блядь тут, я его разорву! Не хочу один тут дохнуть!
- Тишина! - приказывает старший, и Пятьсот Третьему затыкают пасть.
Круг нарушен. Я протягиваю свои ладони Девятисотому и Пятьсот Восемьдесят Четвертому - они жмутся, они не уверены, можно ли ко мне теперь прикасаться, не подцепят ли от меня проказу предательства.
Я так и стою с растопыренными руками - один.
Лицемеры! Я знаю, что на самом деле они все сейчас испытали облегчение - кто из них захотел бы делить вечность и женщин с этим упырем?! Никто! Какое к чертям джентльменство! Я сделал это за вас, взял за вас грех на душу!
Но они отворачиваются от меня. Наш круг так и не срастается.
Я не пытаюсь защищать себя: произнесу все это вслух и настрою их против себя окончательно.
Пятьсот Третий выгибается, но вожатых ему не перебороть. И ничего уже не изменить: скоро они, как черти, утащат его к себе, на самые нижние круги ада, откуда ему уже никогда не выбраться под солнце. Он бьется, но все уже решено.
Мне становится видно, какой он жалкий, Пятьсот Третий.
Жалких трудно ненавидеть, и мне приходится стараться.
Я сделал то, что должен был! То, о чем всегда мечтал! Я отомстил этой твари!
Победа не горчит!
Но что-то тянет у меня внутри - то ли кишки, то ли желудок - когда я гляжу на него, обугленного. Хорошо бы, это была совесть - тогда первым делом, выйдя отсюда, я бы опростался.
- Девять-Ноль-Ноль, - продолжает, откашлявшись, Зевс. - Есть ли среди твоей десятки такой...
Девятисотый бурчит что-то хмуро. Пятьсот Третий, заткнутый, глядит на него с надеждой. А Девятисотый повторяет для него и для меня - раздельно, четко:
- Таких людей у нас нет.
Все! Все! Осталось, чтобы за меня проголосовал Девятьсот Шестой - и все будет кончено. Я вылезу отсюда и больше в жизни не вспомню про это место, про зверя-людоеда, которого я затравил.
Не вспомню! Не вспомню!
- Девять-Ноль-Шесть, - замыкая, проговаривает старший, не замечая, как вожатые крутят и давят к полу неистовствующего Пятьсот Третьего. - Есть ли среди твоей десятки такой, кто не должен покинуть интернат, кто не достоит пополнить великую Фалангу?
- Да, - внезапно чеканит Девятьсот Шестой.
Он глядит на меня - спокойно, уверенно. На меня?!
Нет! Я уже почти вышел отсюда! Зачем тебе это?! Не предавай меня - не ты! Не оставляй меня этому зверю! Почему? Почему?! Сговор? Месть?!
Я молчу.
- Кто же это? Назови номер, - вкрадчиво интересуется у него старый композитный бог.
Девятьсот Шестой улыбается мне, как я улыбался только что Пятьсот Третьему.
Ты не можешь сделать это со мной. Мы вместе смотрели «Глухих», вместе лежали в железных ящиках, ты учил меня врать, ты учил меня прощать, я хотел быть твоим другом, хотел быть тобой!
Ты же не оставишь меня тут, просто чтобы наказать меня! Я предал - врага! Не смог простить - нераскаявшегося!
Неужели они все тоже втайне вынесли мне приговор - и он просто оттягивает его оглашение?
Секунда прошла.
- Кто это? - напоминает старший.
- Пять-Ноль-Три, - говорит Девятьсот Шестой.
Пятьсот Третий! Не я! Пятьсот Третий!
И вот теперь я чувствую это.
Сейчас взмою под потолок. Сейчас грудь разорвет. Сейчас заплачу.
Я не понимаю Девятьсот Шестого, но я благодарен ему - пронзительно, ошеломленно благодарен.
- Да будет так, - принимает наш вердикт старший. - Уведите номер Пять-Ноль-Три.
И Пятьсот Третьего уволакивают из моей сияющей миллионом огней новой жизни - во мрак, в прошлое - навсегда.
На одном берегу рва мы оставляем интернатскую форму и порядковые номера. На другом нас ждут слова присяги на верность Фаланге, черное обмундирование и маски Аполлона. Внутри каждой маски записано что-то. Я беру себе ту, на которой значится: «Ян Нахтигаль». Мне возвращают мое имя и на прощание дарят фамилию.
Моя девятка посматривает на меня искоса - но я знаю, что втайне они мне благодарны, что мне не станут напоминать о том, что я сегодня сделал; они ведь у меня в долгу. Я понимаю их - а они меня. И теперь, когда вместе со мной в иуды вступил Девятьсот Шестой, я не буду изгоем. Все выправится. Все забудется.
Не понимаю я только Девятьсот Шестого. Не понимаю - и обожаю его.
- Что ты сделал? - пищу я ему из-под своей новенькой маски, заискивающе виляя хвостиком. - Почему ты это сделал?
- Ничего такого, - он внимательно смотрит на меня через прорези. - Я тебя простил.
Наконец мне удается подняться с пола, распрямиться - я сажусь на койку и принимаюсь раздирать клейкую ленту на своих запястьях. Вижу свое отражение - в Тоскане.
Волосы встрепаны, глаза выпучены. Рот залеплен широкой полосой изоленты, поверх которой бурой сухой кровью нарисована веселая улыбка.

Отдираю изоленту, которой связаны мои ноги. Я уже успокоил себя. У меня появился план. Я нашел лазейку. Я не дамся старости, не позволю этой плесени превратить в труху мои внутренности и обглодать мое лицо.
- Закон о Выборе, пункт десятый, - бодрым голосом рассказываю я себе; нарисованная улыбка отклеилась с одного конца и висит, лезет мне в рот. - Пункт десятый. «Если до наступления двадцатой недели зарегистрированной беременности оба родителя плода примут решение об аборте и прервут беременность в Центре планирования семьи в Брюсселе в присутствии представителей закона, Минздрава и Фаланги, им может быть назначена противовирусная терапия, приостанавливающая действие акселератора старения».
Надо просто найти ее. Найти Аннели, уговорить ее сделать аборт. Отвезти в Брюссель, в этот чертов центр. Представитель Фаланги удивится, наверное, но я ведь теперь тысячник и герой новостей, так что мы, может, сумеем договориться полюбовно... И это все потом, а сейчас - достать ее; я снова ее ищу.
Одна из ста двадцати миллиардов. Как ее найти?
Почему она записала плод на меня? Почему я должен платить за это?
Даже если это не ошибка, если случилось гребаное чудо и она вправду залетела, почему мне за это отвечать? Почему она приговорила меня заочно, не пыталась даже написать мне или позвонить?! По какому праву?
Она, значит, собирается произвести на свет маленького сморщенного Яна, а большой Ян - подыхай? Забивайся в щель, в резервацию, торчи среди воняющего мочой старичья, отбывай там отсрочку перед казнью? Почему? Почему я? За что?!
Потом первая волна отходит, я вспоминаю Аннели - настоящую. Ее улыбку, нашу поездку в Тоскану, кузнечиков, наш бег через реку в брызгах, бульвары и креветок в ведре. Я не могу понять, зачем ты это сделала. Может быть, Пятьсот Третий заставил тебя. Точно - он. Ты не стала бы сама. Ты знаешь, чем я ради тебя рисковал. Я буду упрашивать тебя, Аннели. Умолять. Ты не захочешь меня губить. Мы не враги. Ты пойдешь на этот аборт, чтобы спасти меня.
Пятьсот Третий. Он ведь сумел разыскать ее, он может знать, где она сейчас. Прижму его - и все решится. Сейчас наберу Шрейеру - и...
В дверь звонят.
- Полиция.
Неловко открывать им в таком виде. Будут вопросы, отвечать на которые мне не хотелось бы. Я судорожно цепляю ногтями приклеившиеся концы изоленты; надо прихорошиться, прежде чем встретить этих ребят, чего бы им от меня ни требовалось.
- Мы слышим, что вы там! - сообщают мне из-за двери. - Мы применим универсальный ключ!
- Минуту! - но они вламываются задолго до того, как минута истекает.
- Какого дьявола?! - я прыгаю со связанными ногами, у рта все еще болтается скотч со смайлом. - Что вы себе позволяете?!
- Ян Нахтигаль 2Т? Вы арестованы по подозрению в убийстве Магнуса Янсена 31А.
- Кого?!
Их трое, и все трое целятся в меня из взаправдашних пистолетов. Кажется, я опасный преступник. Что еще за идиотский розыгрыш?!
Ребята, полтора месяца назад я облил керосином двести человек, но ни один из них не выглядел, как Магнус Янсен. И вряд ли их родные заявят на меня в полицию - разве что в африканскую. А больше я никого не убивал.
- Пройдемте с нами.
Это не приглашение. Разрезав изоленту на ногах, они стягивают мои запястья пластиковой петлей наручников и выталкивают меня в коридор. Весь блок пялится на меня - я опять доставил им развлечение. Кто-то тычет в меня пальцами, снимают меня на коммуникаторы: я же звезда экрана.
- Вы не имеете права! Я Бессмертный, тысячник Фаланги!
Тычками меня гонят к аэрошлюзу, где под парами ждет турболет.
- Вы не понимаете, с кем связались! У меня в комме номер сенатора. Один звонок до министра. Я освобождал Барселону...
- Конфискуй коммуникатор, - говорит один полицейский другому. - Приобщим к делу.
И у меня воруют мой браслет.
- Вам всем хана! Всем! - я дергаюсь, рычу. - Когда об этом узнает Беринг...
- В Европе все равны, - он машет рукой, шлюз зарастает, турболет отваливается в пустоту.
- Хотя ваших-то в Барселоне даже не ранили никого, не то, что наших, - напоминает мне на ухо тот, что заламывает мне руки. - Ваши-то со спящими сражались.
Я обмякаю.
- Кто такой этот Магнус Янсен? Когда я успел его убить?
- В купальнях «Источник». Мы тебя обыскались, Николас Ортнер 21К.
- Фред? - говорю я вслух.
Абсурд! Они же не повесят на меня эту идиотскую смерть! Судите меня за то, что я сжег заживо двести верещащих бандерлогов - и оправдайте, потому что я защищал женщин и детей - но за то, что я пытался откачать того толстячка? За то, что я делал искусственное дыхание мертвецу Фреду?!
- Он утонул, я хотел его спасти!
- Нам все равно, парень. Мы тебя взяли, теперь дело за судом.
Мне сейчас нельзя в суд. Нельзя под камеры. У меня часы тикают, мне за три месяца надо просеять сто двадцать миллиардов человек, у меня секунды лишней нет!
Зато у них времени хоть отбавляй.
Турболет лепится к шлюзу снежно-белой слепой башни. Знакомо: тюрьма и изолятор предварительного заключения. Меня ведут по коридору, сажают в комнатушку без экранов, какая-то безликая мышь еле слышно проборматывает обвинение: убийство, статью, возможные сроки; потом мне объявляют, что суд будет черт знает когда, что в связи с тяжестью предъявленных обвинений, суд мне придется ждать в следственном изоляторе, что если я буду сотрудничать со следствием, это будет принято во внимание, что ее не интересует, почему меня обнаружили дома всего изоленте, что личная жизнь граждан - это их личная жизнь, что меня могу сколько угодно показывать в новостях и награждать, что все мои побрякушки не имеют отношения к делу, что я могу звонить хоть папе римскому, потому что мне полагаются три звонка, а если я продолжу вести себя агрессивно, они будут вынуждены поместить меня в индивидуальную камеру и назначить мне седативные препараты, что она совершенно серьезно, что ее терпение на пределе, что она меня предупредила, что больше со мной церемониться не будут, и что я сам во всем виноват.
Со мной действительно больше не церемонятся.
Меня раздевают донага, обливают дезинфекцией, как какого-нибудь вшивого барселонского бомжа, а потом на подъемном кране забрасывают ввысь по километровой гладкой стене с миллионом дверей, выходящих прямо в пропасть. Кран подвозит меня к одной ячейке из миллиона, высаживает меня в мою индивидуальную камеру, осторожно, двери закрываются, и я уже сижу в ласточкином гнезде на краю километрового обрыва; вот уж откуда не сбежишь.
Камера размером с мой домашний куб. Чтобы занять неизвестно сколько времени, пока мне не назначат дату суда, я могу смотреть новости по крошечному экранчику - и я подсаживаюсь к нему вплотную, чтобы не думать о том, как мне тут тесно.
Но я не собираюсь дожидаться их глупого судилища; за каждый день, который я тут проторчу, я постарею на неделю, а время, чтобы найти Аннели и умолить ее на то, чтобы она избавилась от зародыша, который питается моей жизнью, ускользает.
Я немедленно истребую свое право на долбаные звонки и набираю Шрейеру. Его личного ай-ди у меня нет, приходится пробиваться через приемную. Там переспрашивают мою фамилию по буквам, будто в первый раз ее слышат, и обещают, что непременно доложат господину сенатору.
Сажусь на пол по-турецки и жду звонка. У меня их осталось всего два - возможно, на целую вечность - так что я должен экономить. Ну, давай, говорю я Шрейеру. Я знаю, было время, когда ты пытался меня достать, а я не подходил - но у меня были веские причины. Давай, узнай у своего педика-секретаря, не связывался ли с тобой кто, удивись сдержанно и перезвони. Я же твой названный сын, ты же только сегодня произвел меня в тысячники, ты же лобызал меня на глазах у всего земного шара! Да, сразу после этого я отымел твою жену, но ты же еще не успел об этом узнать!
Я разговариваю с ним про себя, потом шепотом, потом криком - но Шрейер не отвечает. У него государственные дела, или ссора с женой, или он сдох, но вызова от него в тот день я так и не получаю.
И на следующий.
Через два дня я звоню снова, и снова говорю с его секретарем. Тот снова записывает по буквам мою фамилию, снова вежливо удивляется, извиняется, говорит, что, должно быть, забыл передать, что на сей раз обязательно все сообщит господину сенатору, выслушивает мои проклятья до конца - и разрешает мне надеяться, что просто случилось недоразумение.
Господин сенатор не перезванивает мне неделю. У меня остается всего один звонок, и мне нужно очень осторожно решать, с кем я хочу переговорить в последний раз. С Берингом? С Элом? С Пятьсот Третьим? С Аннели? С Фредом? С самим собой двадцать лет назад, в интернате?
Приходит говорящий хомяк в галстуке: мне сообщили, вы хотели поговорить с судебным представителем? К сожалению, пока дата начала судопроизводства еще не назначена. Увы, больше ничего сообщить не могу. Вы в списке ожидания, у нас тут полный завал, мы не справляемся, у нас сокращения, знаете, Беринг ведь только что добился увеличения бюджета своего министерства, теперь содержание Фаланги оплачивает налогоплательщик, за заслуги перед народом Европы, ну а урезать решили нас, да, увольнения уже идут, и реорганизация еще, так что не обессудьте...
Я высчитываю, сколько у меня осталось на то, чтобы найти Аннели: дни тают. Конечно, бесконечно оттягивать суд они не смогут, пара месяцев у меня еще останется - я ведь, разумеется, докажу этим кретинам, что откачивал Фреда, а не топил его - у них должны быть записи с камер, это все чертов «Источник» плетет интриги, не хочет признаваться, что у них люди тонут, а спасатели только трупы таскать умеют, но в суде-то все станет ясно, уж в чем-в чем, а в этом-то я не виновен. Два месяца. Прижучить Пятьсот Третьего, он выведет меня на Аннели, а дальше - дальше я сумею ее убедить.
Почему-то я все еще уверен, что сумею; хотя я же помню, как ее скосил диагноз-проклятие, как она бунтовала против матери. Брось, ей было досадно, что она не сможет забеременеть однажды, когда-то, в будущем, в принципе - а не здесь и сейчас, не от головореза из Фаланги, которого она знала неделю, который командовал ее изнасилованием и должен был прикончить ее любимого. Не от меня.
Мелькает надежда: может, она уже сделала аборт? На меня она указала просто чтобы подстраховаться, а сама отправилась в Брюссель, вычистила себе там все - и помиловала меня? Ей всего двадцать пять, к чему ей сейчас ребенок, красный вопящий карлик, к чему превращать живот в брюхо, грудь - в бурдюки? Я не сделал тебе ничего плохого, Аннели, пожалей меня!
Я посылаю ей космический сигнал - пожалуйста, одумайся, ты ведь тоже знаешь о десятом пункте, Рокамора-Цвибель зачитывал нам его при тебе, ты должна помнить! Ты даже ничего не почувствуешь, Аннели - они все провернут под наркозом, ты уснешь, а когда проснешься, ни будет не тошноты по утрам, ни вечно переполненного мочевого пузыря, ни ноющих отекших ног, ни с каждым днем растущего пуза, в котором сидит существо, помыкающее тобой уже сейчас и будущее тобой помыкать всегда!
Пусть я выйду отсюда на свободу, и мне сообщат тут же, что беременность, которую ты на меня повесила, аннулирована! Что мне оставляют мою молодость!
Еще две недели: Шрейер провалился в тартарары, дата суда все еще не назначена, меня бреют насильно, мне назначают снотворное, потому что уснуть сам я не могу. Каждый день я умножаю на семь, каждый день из меня убывает жизнь, у меня не получается об этом не помнить. Разве может такое быть, чтобы жизнь заканчивалась?
Однажды ночью я пробуждаюсь против таблеток: меня поднимает мысль о том, что я умру. Что Шрейер знает обо мне, что он не собирается мне помогать, что ему известно о моей связи с его женой, что он так наказывает меня - не пачкая рук, он же государственный человек и за него это сделает государство, оплаченные бюджетом палачи, в тысячу раз замедленная гильотина впавшего в маразм правосудия.
Один звонок. Как его потратить?
В новостях рассказывают о том, что Лига Наций рассмотрит проект конвенции о запрете на акселерацию старения: Мендес не отказывается от своего. В этот день меня должны вести на прогулку по нарисованному лесу с озонированным воздухом, но я отказываюсь: хочу видеть это выступление. Вдруг у него получится? Вдруг Мендес сумеет убедить азиатов, наскребет нужные голоса и продавит свою конвенцию через Лигу? Если Лига примет ее - Европе придется взять под козырек, международные конвенции выше национальных законов. Если Лига примет ее, я получу шанс.
И я слушаю речь Мендеса в прямом эфире. Я был в Барселоне, говорит он, и я видел несчастных людей, которые просили справедливости, и которые получили смертный приговор. Которые хотели оставаться молодыми всегда, и которых за это наказали старостью. Среди них были пожилые люди, которых акселератор убьет за год, и маленькие дети, которые погибнут через десять лет, превратившись в сморщенных старичков. Пятьсот лет назад человечеству, только что прошедшему через мясорубку Первой Мировой, хватило мудрости навсегда запретить химическое и бактериологическое оружие. Тогда мы осознали, что еще чуть - и мы потеряем право называться людьми. Почему же пятьсот лет спустя мы снова применяем бактериологическое оружие - пусть речь идет о вирусах, пусть они убивают не сразу, пусть они поражают не массово, а избирательно? Неужели мы были мудрей пять столетий назад? Неужели мы были добрее? Как получается, что Европа, которая называет себя цитаделью гуманизма, уничтожает собственное население, подвергает геноциду тех, кто просит у нее убежища? Акселераторы старения надо запретить сегодня, леди и джентльмены. Это решение, которое должна принять не Европа, не Панамерика, не Индокитай. Это решение, которое примет все человечество.
Ему хлопают - не в тех ложах, конечно, где сидят европейские истуканы, потом на трибуну лезут какие-то африканцы, чрезвычайный посол Гватемалы в национальном костюме, самурай из Японской Океании; каждому есть, что сказать. Они разевают рты, а саундтреком к этой картинке у меня идет тихое посапывание, детское дыхание, и динь-дилинькание моего сканера, это я слушаю, как сопят усыпленные девочки в католическом приюте, как я наблюдаю молча за работой женщин в масках Афины Паллады, прикладывающих к запястью каждой из девочек инъектор, как они ничего не чувствуют и ничего не знают, пока их детство и юность растворяют в кислоте, пока приготавливают из их жизни, битком набитой глупыми надеждами и мечтами, кошмар, в который они проснутся и из которого больше никуда не денутся.
Когда говорит специальный посланник Европы - мы подверглись агрессии, решение было трудным, мы были вынуждены, у нас не было альтернатив, нет никакой связи между барселонским инцидентом и тем, как мы боремся с перенаселением внутри государства - я ловлю себя на том, что шепчу на повторе: «Заткнись, заткнись, заткнись».
Я отдаю свой голос шалопаю Мендесу. Спаси меня, старина, и спаси всех тех, кто когда-либо залетит случайно в нашей счастливой стране, и заодно всех, кого мы оприходовали в Барселоне. Мне плевать на перенаселение, я хочу жить.
Лигу штормит, дебаты похожи на рукопашную, голосование дважды срывается какими-то клоунами, но в итоге Мендес проигрывает: за Европу встает Индокитай и еще для пущей солидности нацепившие очки африканские вожди; наверное, те, кого Партия завалила стеклянными бусами за размещение на их территории лагерей для уколотых.
Мендес оскорблен этим наступлением на общечеловеческие ценности, на устои цивилизации, на универсальную мораль. Европа катится к поп-фашизму, Гитлер мог бы с успехом применить в ней свои таланты, перекрикивает он наших дрессированных союзничков. Я счастлив, что живу в великой Панамерике, государстве, где нет ничего превыше права человека оставаться человеком.
Конец фильма.
Конечно, новостные комментаторы тут же потрошат Мендеса и показывают нахмурившимся было европейцам его гнилое нутро: ему два месяца до президентских выборов, соперник-демократ придерживается европейского взгляда на поп-контроль, считает систему квот устаревшей и несправедливой, Мендес пользуется трибуной Лиги Наций, залп изо всех орудий направлен не против Европы, а против Демократической партии Панама...
Глупо было даже воображать, что ему удастся. И все же я воображал.
Я пишу петиции Берингу, командующему Фаланги - Риккардо, я требую, чтобы мне предоставили бесплатного адвоката, у меня остается всего месяц на то, чтобы найти Аннели, а мне никак не назначат слушания; я начинаю путать день с ночью - в одиночке между ними никакой разницы, я сутками напролет смотрю новости и ничего не понимаю.
Присылают наконец ленивого засранца из тех, что мечтали когда-то сделать мир лучше и пошли за так защищать всякое отребье, но скоро схватили передоз трагических историй, выработали к ним резистентность и сами уже не понимают, зачем таскаются по тюрьмам и судам. Этот так называемый адвокат мелет какую-то чушь про то, что на видеозаписи я якобы ломаю ребра и парализую сердце жертвы множественными ударами, что у обвинения есть основания считать, будто по прибытию в мой бассейн жертва еще была жива, и что травмы, которые я ей нанес, с жизнью как раз абсолютно несовместимы. Линия защиты будет строиться на том, что убийство было совершено в состоянии аффекта, он ковыряет в носу и мажет козявки на мою койку. Потом он узнает, что я тысячник Фаланги, хрипит, дрыгается, падает на пол, зовет охрану, проклинает меня, фашистскую сволочь, и обещает, что я никогда не выйду на свободу.
Он уходит, а я, обессилев, смотрю на мелькающие картинки, и размышляю тупо о том, что каждый приходит в этот мир по своей надобности и со своим назначением; если он пробует делать вещи, себе несвойственные, из этого не получается ничего путного. Я тут, чтобы губить людей, у меня это выходит прекрасно, и еще я хорошо обращаюсь с огнем. И если я пытаюсь оживить кого-то, я все равно его умерщвляю.
В Фаланге я был на своем месте. Только это место, похоже, уже занято кем-то другим; по крайней мере, ни Риккардо, ни Беринг, ни Шрейер не замечают моего отсутствия и не откликаются на десятки посланий, которые я им отправляю. Меня будто удалили из базы данных, и все, кто меня знал, кто поздравлял меня, кто меня поддерживал, вместе с теми, кто меня ненавидел, моргнули и поехали дальше - в мир без меня.
Никто из моих - ни Эл, ни Йозеф, ни Виктор - не явится меня навестить; наверное, им приказано думать, что меня никогда не было. Дисциплина. Так я остаюсь без братьев. Ничего, что они знают меня почти тридцать лет - у них впереди еще триста, чтобы стереть это из памяти.
Мои семикратные дни стекают в канализацию; я испражняюсь жизнью, выдыхаю ее, испаряю через кожные поры. Плоду Аннели должно быть уже восемнадцать недель, а мне кажется, прошла геологическая эпоха с того дня, когда я затыкал время атласной подушкой и как слепой щенок тыкался в ее соски. Еще четырнадцать дней - и нам поздно станет ехать в Брюссель. Плод официально станет человеком, и меня сщелкнут с шахматной доски на сто двадцать миллиардов клеток, потому что он меня съест.
Свой последний звонок я делаю Эллен Шрейер - как ни странно, у меня не осталось никого ближе нее. Она не отвечает, но я задушевно болтаю с ее автоответчиком. Эллен мне не перезванивает.
Я в подводной лодке, экранчик - перископ, в который я смотрю на мир.
В новостях - репортажи о том, как Китай осваивает выкупленную у российских властей Восточную Сибирь. Сижу на койке, наклонившись к экрану, чтобы он казался побольше, и тупо смотрю, как трудолюбивые китайцы загоняют строительную технику в обескровленные, пустынные земли. Вся Сибирь - сплошь вечная мерзлота, даже в лучшие времена плодородный слой не превышал метра, сообщает наш корреспондент Фриц Фриш. Когда-то тут имелись богатые залежи нефти, природного газа, золота, алмазов и редкоземельных металлов, однако их запасы были полностью исчерпаны к середине двадцать второго века, как и на всей прочей территории России. Как известно, распродав все полезные ископаемые, Москва еще пятьдесят лет жила рубкой лесов, а когда с ними было покончено, в сторону Китая и Европы были обращены реки - цивилизованные страны бурно развивались и испытывали острую нехватку пресной воды. Фриц Фриш сетует: эко-баланс нарушился, и тут сейчас вымерзшая пустыня. Однако китайских колонистов, которые активно осваивают даже радиоактивные джунгли Индии и Пакистана, не может остановить вечная мерзлота. Потом интервью с каким-то узкоглазым, обещающим, что тут скоро будут цвести сады и выситься башни, потом кадры: экскаваторы грызут стылую неподатливую почву: действительно, один лед, но китаезы, видимо, запросто хряпают обледенелый грунт на завтрак. Именно тут, в бассейне реки Яна, было сделано шокирующее открытие, дразнит зрителей корреспондент. Оператор взбирается вслед за репортером на вершину сопки, тот указывает вниз, в разлом...
Я сперва не понимаю даже, что там.
Какая-то серо-белесая рябь вместо бурой земли. Грунт треснул, пополз, сопка открылась... И оказалась громадным курганом. Внутри - тысячи человеческих тел, одетых в рваные робы - или вовсе голых... Камера подбирается ближе, знает, как счастливому гражданину страны Утопии важно пощекотать иногда нервишки... Запавшие глаза, серая кожа в кровавых расчесах, обритые черепа, и все изможденные, почти без мяса, умершие голодной смертью или застреленные - оператор с интересом ученого-археолога отыскивает пулевые отверстия в спинах и головах. Обратите внимание, как хорошо сохранились тела, восторгается Фриц Фриш, такое впечатление, что все эти люди умерли только что, а ведь они пролежали тут пятьсот лет! Да-да, без сомнения, мы обнаружили захоронение так называемых «зэков», политических и уголовных заключенных, сосланных в Сибирь в двадцать первом, простите, в двадцатом веке при русском диктаторе Иосифе Сталине, чтобы разрабатывать ее богатые запасы полезных ископаемых. И вот, драматически поднимает брови Фриц Фриш, ископаемыми стали сами несчастные заключенные. Почему же они выглядят так, будто только что умерли? Аномалия? Чудо? Вовсе нет, все дело в вечной мерзлоте, в которой погребены тела, объясняет загадку репортер. Даже жарким сибирским летом вечная мерзлота не прогревается глубже, чем на метр, поэтому «зэки» и находятся в таком великолепном состоянии: мерзлота сыграла роль естественного холодильника! Что же собираются делать с этой страшной находкой новые колониальные власти, интересуется Фриц Фриш у главного китаезы. О, заверяет тот, Китай всегда подходил к наследию присоединяемых земель с исключительным уважением. Возможно, на основе находок мы создадим русский этнографический музей в одном из небоскребов, которые тут будут воздвигнуты. Обнаруженные тела станут ценными экспонатами и наверняка привлекут туристов, хотя, конечно, нам их не потребуется столько... Да-да, и ведь вы говорили, это не единственный подобный курган, подхватывает Фриц Фриш. О нет, тут вокруг таких тьма тьмущая, кивает китаеза. Нам предстоит еще много подобных скорбных находок. Узкоглазый раскланивается, репортер выдает что-то многозначительное и прощается со зрителем, десять тысяч умерших вчера человек с расчесанной кожей и крайней степенью истощения остаются мерзнуть в своем могильнике, я продолжаю сидеть перед экраном, почти упираясь в него лбом.
Это тот самый день, когда моему монстру-ребенку исполняется двадцать недель. Тот самый день, после которого я уже никому не могу подавать апелляции; тот день, когда Аннели меня убила.
Суд все никак не назначают: вы уж простите, у нас такие пертурбации, масса народу уволена, единственная подвижка - вас могут освободить под залог, но, учитывая тяжесть обвинений...
Сумма такая, что мне пришлось бы горбатиться целый век, чтобы ее собрать, а века у меня больше не будет. Ждите, говорят мне, ждите, вот вам успокоительные, чтобы ждать было проще, пейте, пейте их, и прекратите орать круглые сутки, иначе мы отключим ваш экран.
Потом в новостях проскакивает: вирусолог Беатрис Фукуяма, арестованная за создание нелегальных модификаторов старения, была похищена неизвестными из башни Европейского института геронтологии, где она работала в последнее время в рамках сделки со следствием... В похищении подозреваются боевики Партии Жизни, которая в последнее время все более... Комментарий кого-то из полиции: давно пора перестать цацкаться с этими террористами, совершенно очевидно, что когда в их лапы попадает ученый такой величины, их мотивы самые...
Ее освободили, соображаю я. Наши посадили ее за какие-то свои разработки, хотят выжать из нее последнее, пока старуха не околела, а люди Рокаморы достали ее оттуда. Я рад за Беатрис: может, она успеет еще увидеть небо, город, может быть, они вывезут ее с континента... Жаль, что я для них не представляю никакой ценности, жаль, что я не представляю никакой ценности ни для кого - и поэтому подохну в этой гребаной вонючей конуре! Пялясь в этот крошечный плоский экранчик!
Меня настигает такой приступ, каких раньше со мной не случалось; врываются смотрители, пеленают меня, накачивают успокоительными - так я понимаю это сейчас - и вместо коротящего дымного процессора вставляют мне в череп огромную допотопную микросхему, которая торчит из меня во все стороны, по которой электроны ползут как улитки по лабиринту, язык мне пришивают чей-то чужой, наверное, с трупа срезанный, потому что он меня совсем не слушается - просто занимает место во рту.
Где ты сейчас, Аннели? Где ты, Аннели? Где?
Я гляжу в плоскую подушку, представляют себе ее с округлившимся животом; интересно, она поменяла стрижку на ту, которая нравилась Рокаморе?
Почему ты так со мной поступаешь? Что плохого я тебе сделал? Я хотел, чтобы ты жила, Аннели, чтобы мы жили - вместе... Я был готов остаться в Барселоне, был готов полюбить ее ради тебя, и пусть я ощущал это недолго - день, другой - но ведь мы и провели с тобой всего неделю с небольшим.
Ты ведь забралась ко мне вовнутрь, Аннели - ты вручную сжимала и разжимала мое сердце, ты передавливала мои артерии и гнала кровь, куда тебе вздумается, то заставляя мою голову тяжелеть, то опорожняя ее и переливая все из нее в другие сосуды, ты играючи парализовывала мои легкие, лишь дотронувшись до них - и, отпуская, снова позволяла мне дышать, ты вставила прямо в мои зрачки диапозитивы со своим изображением, и я никого, никого и ничего не мог видеть, кроме тебя. Ты была моей центральной нервной системой, Аннели, и я думал, что без тебя не смогу дышать, ощущать, жить. Как назвать это чувство?
Я знал тебя меньше двух недель, Аннели. И за эти две недели я забыл себя.
Ты показала мне волю.
Я ведь так и не сумел сбежать из интерната, Аннели, и, по условиям освобождения, я должен всегда возвращаться в него на ночевку. Тебе пришлось продать тело, чтобы сберечь душу - ведь ты в нее веришь. Я глядел на тебя с завистью и восхищением, потому что сам я могу гордиться только тем, что сберег тело, а моя душа - лежалый товар, и никто ее так и не купил.
Я так и остался в клетке. Высунул между прутьев ноги - и так хожу, таскаю ее за собой, и приноровился жить, и приучился не видеть решетки, которые маячат перед глазами. И только когда я захотел прижаться к тебе, я уперся в эти прутья.
Только тогда я захотел выйти наружу.
Но я не понимаю.
Почему ты соблазнила меня свободой - и забрала все, что у меня было? Почему каждую секунду я отдаю семь секунд своей жизни - чтобы ты могла быть оставаться такой же молодой, такой же живой? Это несправедливо, Аннели. Ты заманила меня в ловушку. Твоя свобода - морок, мираж. Ты назвала паучихой свою мать, но сейчас в коконе из паутины валяюсь я, а ты по капле тянешь из меня сок, жизненную силу...
Выпустите меня.
Лежу на койке, свесив запрокинутую голову вниз, гляжу новости вверх тормашками. Перевернутый Тед Мендес выигрывает выборы в перевернутой Панамерике. Демократы, которые защищали европейскую модель - «бессмертие для каждого», после приключений Мендеса в Барселоне и той битвы, которую он дал в Лиге Нацией, посрамлены, перевернутые миллионы выходят на перевернутые демонстрации, призывая не превращать перевернутый Панам в перевернутую Европу. Мне лень поменять ракурс, чтобы всерьез порадоваться за парня. Перевернутая инаугурация перевернутого президента. Мендес показывает пальцами перевернутую «виктори». Хэппи-энд. Меня рвет.
Рвет моими убеждениями, моими романтическими заблуждениями, рвет остатками веры в Шрейера, в Фалангу, в Партию, в пройдоху Мендеса. Как, черт их дери, получается, что из их безжалостной схватки все выходят победителями? Рокамора обретает всемирную славу и возвращает себе Аннели, Беринг стерилизует Барселону, Шрейер выбивает государственные деньги на содержание Фаланги, Мендес выигрывает свои гребаные выборы, Партия неуклонно растет в опросах общественного мнения?!
Только я проиграл. Я и еще пятьдесят миллионов жителей Барселоны. Те девчонки, которых я убивал во сне.
Потом не происходит вообще ничего. Каждый день - три одинаковых кадра: я лежу на койке и смотрю в потолок, я забираю паек из раздатчика, я глотаю таблетки. Дальше - склеено: лежу на койке, забираю паек, глотаю таблетки, лежу на койке, забираю паек, глотаю таблетки, лежу на койке, забираю паек, глотаю таблетки, пленка проматывается все быстрее, быстрее, быстрее, дни-кадры сливаются в единое: я лежу на койке лежу на койке лежу на койке, мои длинные волосы путаются, прорастают, как корни, в подушку, привязывают меня к постели, новости не затыкаются ни на минуту, но я не слышу и не вижу их, я валандаюсь в нескончаемом бреду: ищу Аннели на барселонской площади двухсот башен, проверяю одно лицо за другим, ворочаю усыпленных на замурованной площади Каталонии, ищу Аннели среди тысяч спешащих пассажиров в давке на каких-то незнакомых хабах, ищу ее на роскошных островах-крышах, куда таким, как я, вход запрещен, ищу ее, сбиваясь с ног, слабея - и каким-то образом вижу, как в ее животе растет, напиваясь моими силами, странное создание с огромной головой и зашитыми глазами, и этими своими глазами оно чует меня, и понимает, что я хочу его смерти, и гонит Аннели дальше, дальше, прочь - хотя, может быть, она сама и желала бы быть найденной, но оно командует ей, оно ей владеет - и она, быв только что в шаге от меня, снова исчезает, а я должен преследовать ее, бежать за ней в странные чужие земли, где нет солнца и нет воды, где сухая мертвая пустыня, где из стылой бесплодной почвы не может взойти ни ростка, но я почему-то копаю там, ищу ее, где ты тут спряталась, вылезай - и раскапываю их, этих нетленных мертвецов, умерших вчера и пятьсот лет назад, у них даже глаза не пожухли - открыты, блестят, смотрят - а почему у вас эти расчесы, откуда они? - а это вши, вши и чесотка, мы думали, что зуд пройдет, когда мы умрем, мы думали, боль пройдет от пуль и голод тоже, а не проходит, понимаешь? - а не видели ли вы тут красивую девчонку с чудовищем в животе? - нет, мы не видели, но ты не беги, не ищи, оставайся с нами, брат, ты ведь нас не случайно нашел, ты больше не их, ты теперь наш, в тебе тоже смерть, пусть она бегает, прячется, а ты успокойся, ты остынь, иди к нам, мы подвинемся, почеши нам пока спину, мы сами не можем достать, а мертвые вши нас кусают, но ты не бойся ничего, укладывайся и готовься, ты не почувствуешь разницы, все то же, у нас тут вечная мерзлота, у нас люди не меняются, будешь так же любить ее, любовь ведь тот же зуд, тот же голод, - нет, я не хочу к вам, я живой, я теплый, мне пора, у меня дела, мне надо успеть - глупости, нет никаких дел, ты что, не понимаешь, что вся твоя беготня, вся суета - это лишнее, что ты уже мертвый, а ведь мертвые и есть настоящие бессмертные, не как вы - одно название, ты ведь к нам шел, к нам, а не к своей девчонке, - когда это я умер, интересно? - а вот тогда, тогда, когда тебя смерть поцеловала, - я не помню такого, чушь какая-то, я пойду, - нет, не пойдешь, и это вовсе не чушь, неужели ты забыл, забыл тот день, когда все началось, когда ты отправился по любовной тоске в блядские купальни, а к тебе прислали мертвого человечка, и человечек попросил, чтобы ты его поцеловал - в губы, взасос - и ты ему не отказал, и поцеловал его, а он поцеловал тебя, и вы прикоснулись языками - его мертвый, а твой живой - вот тогда-то смерть тебе и передалась, тогда-то в тебе и поселилась, так что теперь юли-не юли, а помирать надо, так что хватит увиливать, да поторапливайся, потому что у нас тут тоже перенаселение, как у вас, сегодня есть местечко, а завтра ваши нас и отсюда выпрут, понастроят башен, и тогда тебе покоя уже не будет, набьют из тебя чучело для этнографического музея, ну? - нет, нет, нет, нет - ну ладно, погуляй еще чуть-чуть, если ты такой упрямый, все равно ведь к нам придешь, только подумай сначала, перед тем, как пойдешь - ничего не забыл? - ты ведь хотел у нас кое-что спросить, и не про свою эту девчонку с пузом, а другое, про другую, хотя они, конечно, и здорово похожи - что же? - да про мать свою! - и правда, скажите мне, вы там, в земле, не видели ли моей мамы?
Тррынь!
Завтрак!

- Это он?
- Вам лучше знать, мадам. Это тот, за кого вы хотели внести залог?
- Почему он так выглядит?
- Если желаете, можем его побрить. Он отказывался, а правила содержания не позволяют нам...
- Я не об этом... Не важно. Не надо. А он... Он понимает, что происходит?
- О, не беспокойтесь, он под препаратами, это скоро пройдет. Знаете, он в последнее время был немного буйным...
- В последнее время? Сколько он тут у вас провел?
- Семь месяцев, мадам. Первое слушание по его делу пока не назначено, но автомат разрешил внести залог. Пределы Европы ему покидать нельзя, вам это, конечно, известно.
- Известно. Послушайте, а нельзя ему вколоть что-нибудь бодрящее? У меня мало времени, я не могу ждать, пока он придет в себя.
- Разумеется, мадам. Шарль! Шарль!
Подходит санитар, тычет мне в бесчувственную руку инъектор, и всего через минуту я уже могу подобрать отвисшую челюсть и утереть тянучку слюны.
- Эллен.
- Пойдем отсюда. По пути поговорим.
Мне отдают мою одежду, коммуникатор, вешают на ногу локационный браслет, и выводят из буферной зоны. Мир распахивается сразу во все стороны, я превращаюсь в блоху, мне не по себе, если я смотрю куда-либо дальше, чем на три метра вперед. Кажется, индивидуальной камере удалось сделать то, с чем так до конца и не справилась Аннели: я победил свою клаустрофобию, сжившись с ней.
Мне сейчас нужно, чтобы меня взяли за руку, но Эллен, шагая рядом со мной, но не притрагивается ко мне и пальцем; вместо глаз - ее стрекозиные очки, сквозь которые я не могу ничего понять.
У причала ждет маленький частный турболет, она сама садится за штурвал.
- Прости меня. Я раньше никак не могла.
Я киваю молча: у меня совершенно нет уверенности, что это не сюжетное ответвление какого-нибудь из моих кошмаров, а с их персонажами лучше даже не пытаться заговаривать.
- Эрих за мной следил. Я воспользовалась первой же возможностью.
- Он знает? - неумелым языком выкладываю я слова.
- Он всегда знает, - Эллен снимает машину с причала, и мы зависаем над бездной. - Он все понял в тот же день.
- Он с тобой что-нибудь... Сделал? Избил?..
- Нет. Эрих никогда меня не бьет. Он...
Эллен не договаривает. Мы парим над композитными ущельями, входим между композитных скал; она сосредоточена на управлении. Меня штормит; а ведь раньше от качки я не страдал, у нас даже были короткие курсы вождения.
- Куда мы летим? К вам домой?
- Ни в коем случае! - она испуганно мотает головой. - Когда ему доложат, что я тебя выпустила... Ян... Я пыталась тебе объяснить... Если бы он просто бил меня...
- Так он знал, что меня держат в изоляторе? Я звонил ему, два из трех звонков потратил на твоего мужа, но его секретарь, этот лощеный...
- Эрих сказал мне, что ты оттуда никогда не выйдешь. И я... Господи, что я делаю...
- Он тебе угрожал? Вы все время на виду, он не посмеет!
- Эрих? Не посмеет?
Турболет несется в разрыв между двумя башнями - но Эллен берет левее, чем нужно; скорость громадная, и я еле успеваю сообразить, что она сейчас убьет нас обоих. Одолеваю головокружение, хватаю ее за руку.
- Эллен!
- Боже! Прости... Прости меня, я... - она уводит нас от столкновения в последнюю секунду. - Я...
- Все в порядке? Может быть, договорим, когда сядем?
- Нет. Нет.
Она и не думает искать место для посадки. Ведет она нервно, скверно - это наверняка служебная машина Шрейера, странно даже, что она вообще умеет с ней обращаться.
- В сентябре будет пятнадцать лет, как я с Эрихом.
- Эллен, я серьезно!
- Ты ведь знаешь, что я не первая его жена?
И все валом возвращается ко мне. Наш последний разговор. Их дом. Мое распятие на стене. Та комната за бархатной портьерой.
- Нет. Я... А кто была первой?
- Ее звали Анна. Она пропала без вести. За одиннадцать лет до нашего знакомства. Он сам мне об этом рассказал вскоре после того, как мы начали встречаться. Эрих ее очень любил. Об этом он мне тоже сказал сразу.
- Пропала? Ничего об этом не слышал.
- Пресса молчала.
- Странно. Исчезновение жены видного политика... Горячая история.
- Он не успел познакомить тебя с хозяином «Медиа Корп.» там, на съезде?
Мы лавируем между башен - машина мчит так скоро, словно за нами погоня. Надвигаются и минуют гигантские рекламные панно - таблетки счастья, каникулы в башне «Парадиз», кругосветный полет за 10 часов, экопет «Догги-Дог» - любите, когда хотите, перечеркнутый головастик-эмбрион: «Не позволяй инстинктам погубить твою жизнь!»
- И что же... Что же эта Анна? - спрашиваю я осторожно.
- Он как-то мне заявил... Когда мы рассорились с ним однажды... Когда я собрала вещи... Что Анна тоже пробовала от него уйти. И что он ее все равно нашел. Это заняло какое-то время, но он ее нашел.
- Это... Это ее комната? - горло пересохло. - Это ее комната, да? И это ее распятье? Крест на стене - это же ее?
- Я никогда не была с ней знакома, Ян. Я хотела убрать крест... Но он запретил мне. И в эту комнату входить я не имею права.
- Это их дом? Они жили там вместе?
Я не могу ничего понять: в моих снах, в обрывках воспоминаний - совсем другой дом. Двухэтажный, светлый, белостенный; не замок-бунгало Шрейеров. Но распятие - то же самое, и...
- Почему это так для тебя важно? - спрашивает она.
- Я его сын, да? Скажи мне! Ты ведь знаешь! Я его сын?!
Она молчит, пальцы побелели, не обернется ко мне.
- Посади наконец эту херовину, и давай поговорим по-человечески, Эллен!
- У Эриха не может быть детей.
- Я знаю! Он мне об этом сообщил! Тоже мне секрет! Если ты в Партии...
- Он не может иметь детей, Ян. Он бесплоден.
Я перевариваю это.
- Он просто жрет эти свои таблетки! Все дело в таблетках!
- Нет, не в них. Я... Мне нельзя об этом говорить.
- Сядем мы когда-нибудь или нет? Куда мы летим?
- Я не знаю, Ян! Не знаю!
- Вон там... Там есть площадка. Прошу тебя, Эллен.
- Тебе надо уехать. Тебе надо спрятаться. Он будет в бешенстве, когда ему доложат...
- Я не собираюсь прятаться. У меня к нему масса вопросов.
- Не нужно. Не нужно, Ян. Ты не понимаешь, чем я рискую? Это просто чтобы вытащить тебя, чтобы у тебя был шанс... Убирайся отсюда, беги из этой проклятой страны!
- Я не могу. У меня тут дела. Много незаконченных дел. А вот ты... Ты беги.
- Нет. Нет. Он не отпустит меня. Ни на день. Я каждую ночь обязана спать в его постели. Каждую. Он все равно меня найдет. Так будет гораздо хуже. Если он подумает, что я ушла от него к другому...
- Разве может быть хуже? - я притрагиваюсь к ее шее; она сжимается.
- Не надо, пожалуйста.
- Я никуда не уеду. Я останусь тут, Эллен. Посади машину.
Но она меня не слушается. Турболет набирает скорость, небоскребы мелькают мимо, просветы все уже, Эллен вцепилась в штурвал - и я не знаю, пытается ли она на самом деле проскочить между башен или разогнаться до такой скорости, когда ничто уже не будет в ее власти.
- Посади машину! - я отталкиваю ее, задираю штурвал на себя, турболет взмывает вертикально вверх вдоль черной стены, о которую мы должны были разбиться. - Что с тобой?!
- Оставь! Отпусти меня! - она кричит, впивается в мои руки ногтями; я еле сбрасываю ее с себя, очки отлетают в угол.
Опускаюсь - рвано, криво, громыхая мнущейся обшивкой - на какой-то крыше. Пинком распахиваю люк. Эллен остается внутри, плачет.
- Кто она?..
- Что?!
- Кто она, Ян? Ради кого ты стареешь? От кого у тебя ребенок?
- Откуда ты знаешь? Тебе он сказал, да?! Твой Эрих?!
Она глядит на меня из своего рухнувшего турболета как волчица из логова.
- У тебя половина головы - седая, Ян.
- Да пошла ты! Какая тебе вообще разница?!
- Это несправедливо, - тихо говорит она, глаза блестят. - Это так несправедливо.
- Прекрати, Эллен, хватит! Я благодарен тебе за то, что ты...
- Замолчи. Замолчи. Уходи.
- Зачем ты так? Мне правда не все равно, что с тобой будет, ты...
- Со мной ничего не будет! Со мной никогда ничего не будет! Я буду торчать в своем роскошном пентхаусе, под стеклянной крышей, молодая и красивая, вечно, как гребаная муха в янтаре, и со мной никогда ничего не будет! Убирайся отсюда, слышишь?! Пошел вон!!!
Я жму плечами, как трусливый идиот, подчиняюсь приказу и отступаю.
- Ты не предлагал мне сбежать вместе... - шепчет она мне вслед, но я уже ее не слышу.
Прости меня, Эллен. Я не могу тебя спасти. Ты меня спасла - а мне нечем тебе отплатить. Мы просто баловались. Ты скучала, я тебя развлекал. Нам некуда бежать вместе.
Падаю в лифте. А сам все стараюсь высчитать: пятнадцать лет плюс одиннадцать. Двадцать шесть. Столько лет прошло с исчезновения первой жены сенатора Шрейера. И столько же - со дня, когда меня доставили в интернат. Получается?
Моя мать - первая жена Эриха Шрейера? Ушедшая от него, найденная им - и... И пропавшая без вести? Если он бесплоден - почему тогда он называл меня своим сыном?
Нет, ничего не получается: мне же двадцать девять. Кажется.
Не хватает сил соображать. Не хватает сил добиваться правды, срочно искать Шрейера и пронзать его грудь священным копьем. Мне вкололи какой-то стимулятор, но всю ту мерзость, которой меня пичкали в тюрьме, он из меня не вычистил. Успокоительные и снотворные размешаны во всех жидкостях моего организма.
Я устал. Мне нужна небольшая передышка; хотя бы на миг снова почувствовать себя белым человеком.
Не думаю, что мой дом до сих пор мой: аренда не уплачивалась семь месяцев, там, наверняка, уже проживает какой-нибудь другой парень в маске. А на пороге меня, наверное, такие же парни ждут-не дождутся меня. Впрочем, с этой дрянью на ноге они могут достать меня где угодно.
Не понимаю, где мне искать убежища; а ноги сами несут меня туда, где я находил себя раньше. В «Источник». Я просто хочу окунуться в эти воды, просто хочу закрыть глаза, увидеть смеющихся людей, хочу, чтобы клешни внутри меня разжались.
Да, в «Источник». Больше некуда.
Хоть я теперь и при бороде, людей не обманешь; они вперились в меня изумленно - видимо, вспоминают еще мой бенефис на съезде Партии. Кто-то норовит притронуться к моему коммуникатору своим, я отдергиваю руку. Всякие мошенники бывают.
Мой банковский счет еще не опустошен окончательно, и я могу позволить себе и вход в «Источник», и хороший обед.
Добираюсь до купален; голод дикий. Сначала перекус, потом отдых.
Выбираю место за круглым столиком у самого подножья знаменитого хрустального баобаба, великого дерева плотских наслаждений. По его ветвям текут вязкие соки похоти и любования, вожделения и удовлетворения; цветы-бассейны пульсируют, заманивая в себя людей.
В черепе гулко, плеск воды наливает его доверху. Жмурюсь на нарисованное горное солнце. Прохладный ветерок ерошит мои патлы.
Переливающееся табло: «Добро пожаловать в Источник! Сегодня 24 августа 2455 года»... Здесь все то же, что и год назад - или сколько времени прошло? - и то же, что будет тут через десять лет, и через сто, и через триста. Будут приходить сюда за баловством, за удовольствием, за играми те же божки, что и сейчас.
Заказываю себе стейк - и приносят превосходный; раньше я бы такой себе не позволил, но теперь откладывать на будущее, наверное, нет никакого смысла. Он тает во рту, посоленный идеально, я окунаю кусочки в перечный соус и никуда не тороплюсь. Доем - поднимусь на самый верх стеклянного дерева и пущусь вниз, от чаши к чаше. Буду просто смотреть по сторонам.
Почему я тут?
Я пришел сюда, чтобы отвлечь себя. Притвориться, будто я тот же; чтобы глазеть на этих беззаботных мальчиков и особенно девочек, на их прекрасные юные тела. Чтобы вспомнить, что я чувствовал при их виде раньше. Подпитаться их молодостью. И чтобы выбить из своей башки тот поцелуй с утопленником.
Точеные, стройные, загорелые - распластанные в прозрачных купелях, они плывут на месте, дотрагиваются друг до друга, сливаются ртами, и воздух пахнет сладкой плотью. Здесь это повсюду: молодость и притяжение.
Я смотрю на них - и на меня тоже смотрят любопытно.
Все с этим делом в порядке, дурак был тот студент, брат Раджа, который думал продавать в Европу трансляции с барселонскими блудницами... Как его там звали? Погоди-ка... Я вспоминаю кое-что и нащупываю в нагрудном кармане его визитку. «Хему Тирак. Порнобарон». Странное чувство. Словно я сижу за их столом, и старик Девендра жив, и подливает мне своей жгучей о де ви, и бабка Чахна велит ему остановиться, и Радж хмурится - не с арабами ли мы, не за паков ли, и очкарик Хему заливает мне про то, как мы будем процветать, когда наладим наш с ним общий бизнес.
Ничего этого больше нет. И ничего уже не будет.
Стоит на месте того города стерильная Барселона, чистая, пустая и продезинфицированная, летучий голландец, налетевший на берег.
- Прошу прощения? - кто-то кладет руку на мое плечо.
- У вас нет о де ви? - я не оглядываюсь назад; не хочется выныривать.
- Извините, вам придется расплатиться и покинуть наши купальни.
- А?
Секьюрити в белом пляжном костюме, на груди - нашивка-логотип «Источника».
- Пожалуйста, расплатитесь и покиньте наши купальни.
- А в чем дело?
- Вы смущаете наших клиентов. Ваш вид... - он кашляет.
- Мой вид?
- Вы находитесь вне возрастной группы, которую мы рады тут видеть. Нам еще предстоит выяснить, почему вас пропустили сюда.
- Какого черта? Мне двадцать девять...
Тут я понимаю: сейчас август, мой день рождения в июне. Да ведь мне уже тридцать. Всего тридцать.
- Стареющим людям вход в «Источник» воспрещен. Это делается, чтобы не задевать чувства клиентов. Мне следует позвать коллег?
- Не следует.
Я отпихиваю его, на ходу расплачиваюсь с официантом, и пытаюсь вычислить среди купальщиков ту тварь, которая на меня заявила. Чем я им мешал?!
- Дайте хоть в сортир зайти! Я, между прочим, полную цену платил за вход!
- Очень сожалею, но такова политика нашего заведения...
В туалет я все же прорываюсь. Стою у зеркала, гляжусь в свое отражение - в первый раз за семь месяцев, блики в перископе тюремного экрана не в счет. Не признаю себя! Хватаюсь за волосы, за свою гриву, за свою бороду - впервые за долгие месяцы чувствуя, как оброс. Не верю. Подношу прядь к глазам - она серая, страшная. Эллен не пугала меня. Не преувеличивала. Мои виски выцвели, исстарились, тесным обручем сжимают голову; и в спутанной бороде - тоже соль.
Почему я так рано поседел?! Всего ведь полгода прошло - чуть больше...
Меня ведет, и вдруг прихватывает затылок - незнакомое ощущение, как будто раскаленный колпак прямо на мозг надели. Голова болит? С каких это пор?
Открываю кран, купаю лицо в холодной воде, не помогает ничем. Я не просыпаюсь, и голову не отпускает, и борода остается прореженной сединой, неопрятной. Надо побриться наголо, думаю я. Надо сбрить всю эту гадость, все эти заплесневелые водоросли.
Вот почему люди в тубе на меня так зыркали. А с коммуникатором они... Неужели хотели подать милостыню?
- Эй! Вы скоро там?
Нельзя бриться. С такой копной и с бородой до глаз система распознавания лиц может на мне срезаться, а если я буду голый, меня прищучат тут же. Есть, конечно, локационный браслет на ноге - но есть и умельцы, которые их наловчились срезать. Если меня до сих пор не забрали, может быть, я и еще успею таких отыскать.
- Эй! Не заставляйте меня стаскивать вас с унитаза!
Появляюсь - причесанный так красиво, как только сумел. Плюю ему под ноги.
- Да паш-шел ты.
На выходе эта гнида все-таки пихает меня в спину.
Забиваю в коммуникатор поиск ближайшей парикмахерской. Тремя ярусами ниже есть целый салон красоты. Отлично. Если красота мир спасет, то и меня выручит.
Башня «Престиж Плаза», в которой находится «Источник» - один сплошной развлекательный центр. Тысяча этажей магазинов, спа-центров, нейл-баров, игровых автоматов с прямым нейроподключением, тайского массажа с полным контактом, кафе с молекулярными соками, зон для курения, океанариумов с живыми акулами, виртуальными турагентствами и с банджо-джампингом на двести ярусов вниз головой. Все это дребезжит, жжется лазерными лучами-указками, мелькает всеми цветами видимого спектра, тренькает, надрывно поет голосами бессменных звезд эстрады и героев видеоигр. Толпа - яркие летние маечки, бицепсы-трицепсы, юбки до пупа, пестрый бриолин, отчаянная косметика, крепкие девчачьи груди силуэтами под обтягивающей тканью - праздная, гулящая. Я бреду сквозь них, весь утыканный их взглядами, как Святой Себастьян стрелами язычников. Чувствуют во мне чужака.
Я и сам не понимаю, что я тут не на своем месте. Эта толпа напоминает мне чем-то другую, через которую мы пробирались с Аннели на бульварах Рамблас, под низкой замалеванной крышей. Гудели вялые вентиляторы, все было в дыму и в гари, вокруг были одни нищие, но отчего-то я ощущал их как настоящих людей; а эта неоновая молодежь отштампована, отлита из композита. В чем дело?
Салон красоты находится рядом с клиникой по смене пола, я чуть не путаю двери. На входе - несколько радужных трансвеститов с пропорциями борцов сумо. Зазывают к себе, обещают скидку, потом до них доходит, что мой колор - не прихоть, и они принимаются шушукаться, квохтать, прикрывать кокетливо широченные напомаженные рты кулаками с дыню размером. Они - более нормальные, чем я, в нашем нестареющем и заскучавшем государстве; я проглатываю сопли, протискиваюсь мимо этих образин и попадаю в салон.
- Можно покраситься?
Все бабы, которым ставят футовый кок, которым накладывают ногти с голограммой, которым протыкают магнитным пирсингом языки, которым татуируют крылатые пенисы во всю спину - все выпучиваются на меня.
И персонал, который можно было бы смело выставлять в межгалактическом зверинце, если бы космос не оказался мертвый, как те земли в Сибири, все эти фрики - тоже выпяливают свои накрашенные глаза с драматическими ресницами, контактные линзы всех противоестественных цветов, с вертикальными змеиными зрачками или вовсе без зрачков. Бал у сатаны - и на нем я оказываюсь уродом.
- Ну не знаааю... - тянет девица с загорелым дочерна лицом, покрытым узором белых наколок. - А че, это от стааар’сти, что ли? Че, укол’тый?
- Уколотый, - бурчу я.
- Ну не знаааю... - повторяет она. - У нас аднарааз’вава аабааруд’ваниия неету. Ты ж з’рааазный ньбось.
- Идиотка! Это не заразно! И хватит на меня пялиться, вы все!
- Вызови полицию вообще, - громко шепчет ей подруга - одна грудь обнажена, сосок проколот.
- Суки! - я хлопаю дверью, отталкиваю жирного транса, втираюсь в толпу, продираюсь сквозь эти мясные дебри, голова раскалывается.
Какого хера эти куры будут делать из меня посмешище! Я не чумной, я не идиот, я не сентиментальный слабак, я не животное, которое не умеет контролировать свои инстинкты! Я не делал этот гребаный Выбор, ясно?! Его сделали за меня, меня предали, и я узнал об этом постфактум! Я не хочу никакого ребенка, никогда не хотел! Нас слишком много и без того, не хватало еще размножаться таким, как я!
Я хочу закрасить седину. Есть в этом городе место, где мне закрасят ее без лишних вопросов, где моей проказой не побрезгуют, где ко мне отважатся прикоснуться?
Резервации. Резервации.
Там никто на меня даже не обратит внимания. Там я буду неприлично молодым. Наверняка они и красят, и убирают морщины, и натягивают кожу. Для начала просто замаскировать это уродство, залепить его сверху... Надеть маску Аполлона, вечно юного и вечно прекрасного. Быть как все. Снова быть как все.
Поиск резерваций: до ближней - полчаса езды, зато башня - отменная: половину ярусов занимают скупщики краденого, пластические хирурги и этнические бордели.
Покупаю худи с капюшоном и темные очки, оглядываю себя в зеркале кабины для переодевания: вокруг глаз складки, мешки набрякли, лоб перечеркнут. Беру еще темные очки. Но когда я еду в тубе, от меня никак не отлипнет чувство, что остальные пассажиры норовят от меня отодвинуться, будто я воняю. Может, в руках дело? Кожа на них одрябла? Я прячу их в набрюшный карман.
Башня «Секвойя». Приехали.
Теперь на триста ярусов вниз, к земле, туда, где дешевле - резервации всегда находятся там, где дешевле, потому что старичье не успевает заработать ни на что приличное.
В лифте - масса попутчиков: негр с отбеленным лицом, девица с искусственно увеличенными глазами, сисястая псевдо-бразильянка в оттопыренных шортах, остриженная старуха с клюкой; потом входят еще десять парней в бесформенных черных балахонах с рюкзаками.
Трудно прикидываться, будто их тут нет; сами они не знают, куда себя приткнуть, рыщут взглядами, жрут старуху, облизываются на меня. Старуха отдувается, заискивающе посматривает на меня: мы же с ней одной крови, но я еще полон сил, я вступлюсь за нее, если что, так ведь?
Ведь так?
Чужое звено - едет на тот же ярус, куда и мне надо. Туда, где резервация. Мы со старухой задерживаемся в лифте, пропускаем их вперед.
- Выходите? - спрашивает она меня.
- Нет. Мне дальше, - вру я.
- И мне тоже, - врет она.
Мы набираем ярус наугад.
- Какой-то ужас, - жалуется старуха. - Обыски каждый день. Раньше не было такого. Помереть не дадут спокойно.
- Что ищут?
- Мальчиков наших. Из партии.
Точно она не о нашей Партии. Но меня это больше не касается, господин сенатор. Это ваши сучьи игрища, ваши и вашего панамского дружка. Все начинается, как дело принципа и вопрос будущего планеты, а заканчивается бюджетами и министерскими портфелями. Тысячник Фаланги Ян Нахтигаль сидит в следственном изоляторе в ожидании суда по кретинскому обвинению, суда, который никогда не будет назначен. А в лифтах с сочувствующими преступным элементам старухами катается неустановленное частное лицо, по глаза заросшее седеющей бородой.
Я не собираюсь забывать о вас, господин сенатор. Вы же мой приемный отец, так? Как же я могу о вас забыть! О вас - и о вашей первой жене. Дайте мне только снова раствориться в толпе, стать незаметным - и как-нибудь я обязательно похлопаю вас по плечу. Вам не придется долго ждать этого дня. Я тороплюсь.
- Не знаете, где тут покраситься можно? - я прикасаюсь к своим волосам.
- У нас в резервации везде делают, - понимающе улыбается старуха. - Но сейчас туда... По вам почти не скажешь, - любезно добавляет она. - Седину уберете - и больше тридцати вам не дашь. Разве морщинки эти... На семьдесят шестом уровне есть отличные кабинеты. Эстетическая хирургия. Я к ним трижды в год ходила, пока деньги были. «Вторая молодость», запишите себе. Может, и с шевелюрой вашей что-нибудь сотворят?
И вот я уже жму цифры 7 и 6, и, распрощавшись с этой милой старушенцией, высаживаюсь на этаже с потолком высотой в два метра, шагаю мимо жилых блоков, мимо мастерских по ремонту виртуальных очков, магазинчиков, где барыжат подержанными коммуникаторами, занюханных с виду лавчонок, где для коллекционеров-фетишистов под прилавками держат бумажные комиксы и четыреста лет как несобранные конструкторы «Лего» в нетронутых упаковках, экопет-шопов с ассортиментом лучших друзей человека - электронных собак, кошек, мышей, попугайчиков в плюше или планшетном исполнении. Лучшие друзья глядят с витрин остановившимися глазами, зато не клянчат жратву, не гадят где попало, и за них не надо платить драконовский социальный налог.
«Вторая молодость» располагается встык с магазином клюк, инвалидных кресел и старческих ходунков. Теперь я знаю, где все это брать.
Ресепшен. Очередь: расползающиеся по швам седеющие, жиреющие, лысеющие, со складками на подбородке, с растягивающейся тряпичной кожей - таких раньше назвали бы людьми среднего возраста. Старость-грибница растет у них внутри, протянула нити к их рукам и ногам, опутала органы, питается ими, перерабатывает их тела в гниль - а они сидят тут, тратят все накопления на то, чтобы замазать гримом пролежни и проплешины.
И вот я среди своих.
Будь ты проклят, Пятьсот Третий. Я все делаю, как ты сказал.
Зато тут, наконец, мне рады. Пока мои волосы отмывают, вымачивают в красителе, выдерживают в пакете, снова отмывают и снова красят, обходительная болтовня обмывает меня, массирует мои сведенные спазмом мозги, успокаивает. Мне предлагают подтяжечку, коллагеновые укольчики, омолаживающие ингаляции, солярий.
Я не идиот. Я не из тех, кто считает, что косметика лечит болезни. Так я и сообщаю Хосе - парню с аккуратными усиками и в удивительно чистом белом халате.
- Понимаю. Разумеется! - он кивает мне серьезно, потом склоняется к моему уху. - Но ведь есть и другие средства, более радикальные. Не внешние, - он переходит на шепот.
- О чем это ты?
- Нельзя же тут... При всех, - Хосе через зеркало сканирует зал - не подслушивает ли кто? И предлагает. - Не хотите кофе? У нас тут есть маленькая кухня...
Я следую за ним, на голове пакет, в котором лежат мои новые волосы - жгуче-рыжие, не юношеские даже, а детские. Мне наливают кофе - хороший, душистый.
- Это не вполне легально, вы понимаете... Все, что связано с вирусной терапией - под колпаком у Партии Бессмертия, у этих головорезов из Фаланги... Я просто хотел бы удостовериться, что у вас действительно серьезный интерес...
Разумеется, я наслышан про шарлатанов, которые впаривают плацебо отчаявшимся старикам, и про экстрасенсов, которые клянутся обратить старение вспять, залатывая прохудившееся биополе, но этот парень не выглядит жуликом.
- Серьезный интерес? - повторяю я. - Семь месяцев назад я был нормальным человеком, а теперь в меня тычут пальцами в тубе. Я был не в курсе, что у меня есть голова, а сегодня она у меня пухнет целый день.
- Сосуды, - вздыхает Хосе. - Возрастные изменения.
- Послушай, ты же не собираешься продать мне какие-нибудь волшебные тибетские шарики, а?
- Нет, конечно! - он шепчет еще тише. - Просто есть одни люди, которые переливают кровь. Откачивают всю зараженную и заменяют ее донорской. С противовирусными препаратами. Настоящими. Контрабандными, из Панама. Процедура стоит, конечно... Но она того стоит. У меня отец... В общем, он до сих пор жив.
- Из Панама?
- Возят дипломатическим классом, их не досматривают.
Я не верю ему. Но разглядываю свои кулаки - и замечаю на них крошечные желтые пятнышки, которых не видел раньше. Пигмент. Как у девяностолетних. Раньше у каждого был свой темп старения - кто-то уже в шестьдесят выглядел на восемьдесят и умирал от какой-нибудь ерунды, не протянув и пяти лет. Все дело в генах. Моя собственная наследственность, похоже, полная дрянь. У меня нет десяти лет. Спасибо, ма. Спасибо, па. Кто бы ты ни был.
- Почем они это делают? Гарантии дают?
- Вы меня неверно поняли. Это не мой бизнес, я просто вижу приличного человека и даю вам совет.
- Ты меня к ним отведешь? Я бы хотел взглянуть.
Хосе соглашается.
Идем закоулками - узкими техническими коридорами, сервисными лифтиками, оказываемся вдруг на стоэтажном километровом рисовом поле, где от зеленых кончиков до каждого галогенового неба - полметра, где плоские роботы снуют по рельсам, собирая, удобряя, жужжа, где так влажно, что видимость - три шага, где звенят в тумане мириады комаров, разлетаясь через вентиляцию по всей громадной башне - проходим мимо и забираемся в канализационный люк, ползем по скобкам лестницы, вылезаем на какой-то промзоне, дальше через производственные линии, где льют какой-то из миллиарда разновидностей композита - и, в конце концов, упираемся в черную дверь без замка, без таблички, даже без видеофона.
Хосе стучит в дверь - как в каких-нибудь старинных фильмах про шпионов.
- Никаких переговоров по комму, - поясняет он. - Министерство слушает все.
Потом он машет рукой куда-то в угол. Камеры.
Открывают смурные личности, подплечные кобуры поверх белых маек-алкоголичек, щетки ирокезов на выскобленных черепах. Узнают Хосе, обмениваются ритуальными похлопываниями.
- Сюда только по связям, - тихо объясняет мне он, миновав охрану. - Бессмертные вконец озверели. Дожимают Партию Жизни. Слухи такие, что казнь для них введут.
- Не может быть!
- Может и не может, а может и может, - хмыкает Хосе. - Вон, в Барселоне всем, кому ни попадя, акселератор кололи, и ничего, народ схавал, права человека там или нет.
Помещение похоже на коридор какой-нибудь медицинской клиники - банкетки для ожидающих, на стенах - памятки о здоровом образе жизни, только вот освещение не работает почти: пара крохотных диодов на всю эту кишку, лиц пациентов не различишь, но они все равно прячутся под шляпами, за планшетами, за видеоочками.
- Тут все анонимно, - Хосе запинается об отставший ламинат. - Вертеть!
Меня проводят в кабинет вне очереди, из-за планшетов раздается недовольное шипение. Внутри - все цивильно. Стерильная процедурная, современное оборудование, установка для переливания крови, прозрачный сейф с пробирками, интеллигентные лица. Мать Аннели умерла бы от зависти.
- Вашей инъекции примерно год, так? - деловито спрашивает у меня доктор с зачесанными на пробор волосами и выпуклой щетинистой родинкой на щеке.
Он сидит за столом, заваленным снимками, вирусными картами, распечатками анализов и черт знает чем еще. На маленькой табличке написано: «Джон». Стена за спиной заклеена графиками, желтыми стикерами-напоминалками и фотографиями.
- Семь месяцев.
- Значит, у вас низкая сопротивляемость акселератору. Если вы будете бездействовать, вам осталось лет пять-шесть.
- Пять-шесть?!
- Если вы будете бездействовать. Но вы же пришли к нам, так?
Одна из фотографий притягивает. Знакомое лицо, только... Только молодое.
- Это Беатрис Фукуяма? - я привстаю.
- Да, она. Следите за новостями, а? Мы с ней начинали вместе. Но ей повезло меньше.
- Вы с ней работали?
- Пятнадцать плодотворных лет. Она, конечно, знает меня под другим именем, но...
Если бы я только имел представление, где ее искать! Конечно, я отправился бы прямиком к ней. Столько лет исследований; наверняка у нее остались наработки! Но теперь она - с Рокаморой... Он спрячет ее от меня, как спрятал Аннели, и мне никогда ее не достать. Может быть, она узнала бы меня, я бы принес ей искренние извинения, загладил как-нибудь свою вину, помог бы ей, охранял ее. И дождался бы, пока она сотворит свое чудодейственное средство. То самое, которое я помешал ей создать.
- Вы тоже нобелевский лауреат в изгнании?
- Нет, все лавры достались ей. Зато по мне не скажешь, что мне немного за девяносто, - Джон улыбается. - Перейдем к делу?
Однократная процедура опустошит мой счет; но это ничего, потому что у меня должен быть открыт кредитный лимит. Цена складывается из пяти литровых пакетов донорской крови, взяток панамским службам поп-контроля и таможенникам, а также стоимости всех мер безопасности, которые тут принимаются. Результат гарантировать он не может, но у большинства пациентов ремиссия длится годы и даже десятилетия.
- Приходится иногда повторять, совсем вычистить вирус не удается, врать не буду...
И тут его взгляд падает на мою задранную брючину. Под ней - сползший на лодыжку локационный браслет.
- Вы что? Что это? - он вскакивает со стула, его вальяжность облезает с него мигом. - Как вы сюда прошли с этим? Фернандо! Рауль! Ты кого сюда привел? - накидывается он на побледневшего Хосе.
- Нет, послушайте...
Вламываются те двое с ирокезами, стволы наставлены, слушать ничего не хотят.
- Мы не будем вас лечить. У нас тут ничего нет. Это ошибка, - четко произносит Джон, обращаясь к моей лодыжке.
- Я не провокатор! Клянусь, я не провокатор! Меня выпустили под залог, эта шайба просто следит, чтобы я не пересекал границы Европы!
Мне вдруг надо, чтобы они обязательно сделали мне свое гребаное переливание; это, может, мой единственный шанс - пусть он и ничтожен.
- Вы подвели меня, - Хосе пятится к выходу. - Вы очень меня подвели.
- Меня взяли по обвинению в убийстве, семь месяцев в одиночке, моя телка записала на меня ребенка, не спросив у меня разрешения, сучка! Я за эти семь месяцев сдал на семь лет, а вы не хотите мне помочь?! Что вы за доктор такой?! Куда мне теперь идти?! К народным целителям? К африканским колдунам?! К Фукуяме?! Я не хочу подыхать, что в этом такого?!
Доктор Джон раскрывает рот, чтобы пресечь меня в самом начале - но позволяет мне закончить; Фернандо и Рауль бомбили меня с моими проблемами, им нужно всего слово, чтобы меня изрешетить или вышвырнуть вон.
Оглашение вердикта затягивается. Хосе мнется в дверях, доктор теребит свою бородатую родинку.
- Ладно. Мы снимем с вас эту штуку, и осмотрим ее. Если камер и прослушки там нет, по рукам.
Рауль приносит какое-то замысловатое устройство, шарахает мой браслет током, потом распиливает его лазерным резаком с потрясающей ловкостью; наверное, бывший хирург или патологоанатом. Потом они курочат его, крутят под увеличительным стеклом, довольно нервный момент, и, наконец, отпускают мне грехи.
- Просто геолокационный модуль.
- Чинить будете сами, - сухо улыбается мне доктор Джон. - Пройдемте на процедуру.
Мой банковский счет пылесосят авансом, достают из холодильника пакеты с кровью, похожие на расфасованный томатный сок, шпигуют меня иглами и отправляют в плавание по темному неспокойному морю, меня укачивает, и я засыпаю, и вижу улыбающуюся мне Аннели, и себя с ней - не рыжего, а прежнего, еще не тронутого порчей. Мы идем по набережной Барселоны и едим жареных креветок.
- Все, просыпаемся! - доктор шлепает меня по щеке. - Просыпаемся!
Я жмурюсь, трясу головой - сколько времени прошло? - руки и ноги уже заклеены пластырем, все закончилось.
- Ну что же, будем надеяться, что мы с вами больше никогда не увидимся! - шутит Джон на прощание, тряся мне руку. - Да... У вас там комм пищал, пока вы были под наркозом.
Наверное, Эллен.
Надо перезвонить ей. Глупо получилось - и стыдно. Она ведь действительно рискует всем, вытаскивая меня из-за решетки, а я сбегаю от нее, как мальчишка, воспользовавшись ее истерикой...
Я подношу коммуникатор к глазам, прикладываю палец.
Ай-ди незнакомый.
«Ты мне очень нужен. А.»
- Все в порядке? - беспокоится доктор. - Что-то у вас со зрачками. Голова не кружится? Вы присядьте, присядьте.
«Где ты?!» - набиваю я ответ, не попадая в буквы прыгающими пальцами. - «Буду через час где угодно».

Дорога занимает у меня два часа сорок три минуты: башня «Промпарк 4451» находится где-то на отшибе цивилизованного мира. Утилитарная конструкция - сизый параллелепипед без террас, без рекламных табло, без окон, в двадцать раз больше любой жилой башни, которую мне приходилось видеть.
Приближаясь к этому монстру, поезд ныряет под землю и дальше мчится беспросветными туннелями. Туба сюда ходит только одна, пустая, и редко: «Промпарк 4451» почти полностью роботизирован. Самые разные предприятия снимают тут ярусы под свои надобности - от производства турбин до штамповки таблеток счастья. Жилой сектор, если и есть, в лифтах никак не обозначен.
Идеальное место для убийства, думаю я. Это наверняка ловушка. Меня заманивают - Рокамора, Пятьсот Третий, Шрейер - чтобы покончить со мной. Все понимаю - и лечу на встречу с Аннели, сломя голову лечу на жгучую лампочку ночного фонаря.
Говорить со мной по комму, объяснить все - она не может. Вот адрес, я тебя жду.
Здешние лифты сделаны не для людей: это огромные индустриальные подъемники с десятиметровыми потолками, вокруг грязный толстенный композит, прочней любого металла, вместо створок дверей - настоящие ворота, в которые пройдет карьерный самосвал. Но здешние автоматы-погрузчики - на капотах трубящий мамонт - в них еле втискиваются. Странно даже, что тут вообще есть панель управления на высоте человеческого роста.
Внутри почти полный мрак: роботам не нужен свет, они слепые. Я прижимаюсь к стенкам, чтобы грузовики не раздавили меня своими колесами, каждое из которых выше меня вдвое.
Триста двадцатый ярус.
«Бизон Вилли», одно из мясных подразделений «Ортега и Ортега Фудс Ко.», продовольственного гиганта, который кормит полмира. Вспоминаю их логотип - мультяшный лохматый бык, подмигивающий в камеру. За спиной у Вилли - вольные прерии и закатное солнце. Весь спектр мясных продуктов из бизоньего мяса - сытного и диетического. Включая, кстати, заранее нарезанные стейки для ресторанов. Надеюсь, на триста двадцатом этаже у них не бойни. Бойни, правда, редко теперь встретишь.
Хотя все равно. Пусть бы и бойни. Лишь бы это оказался не обман.
Лишь бы Аннели вправду ждала меня тут.
Пропускаю вперед безглазого циклопа - и вхожу осторожно следом за ним в его пещеру. Это не коридор - это широченный тракт, по которому с оглушающим рокотом движутся черные громады, навьюченные десятками тонн неизвестных грузов. Потолок теряется во мраке, диоды попадаются раз на полсотни метров, я бреду впотьмах вдоль стены, приближаясь шаг за шагом к мигающей гео-метке на экране моего коммуникатора.
Она позвала меня. Она меня вспомнила и позвала.
Наверное, Рокамора бросил ее. Не захотел растить чужого ребенка.
Я иду по стенке, нужная точка все ближе, я ступаю все медленней. Под ребрами тревожно ноет, вытираю со лба выступившую испарину. Я трушу. Тушуюсь. Что я ей скажу? Как буду кричать на нее, требуя объяснений? Как обвиню ее в том, что она загубила мою жизнь, отняла у меня молодость?
А может, и не было никакого ребенка - вернувшись к Рокаморе, она просто сделала аборт, о котором я ее упрашивал из своей одиночки, и избавилась от пожизненного напоминания о нашем падении, о своей неверности. Или не было ничего вообще, и Шрейер отомстил мне за роман с его женой, подослав ко мне Пятьсот Третьего. Все решится сейчас. Все ответы будут даны.
Мне нужны эти ответы, но если она промолчит и выгонит меня, я все равно буду доволен: я с ней увиделся. Просто мне надо на нее посмотреть: я так давно этого хотел.
Указатель - «Бизон Билли. Ферма 72\/40».
Поворачиваю за угол.
Впереди - проделанная в огромных воротах для циклопов - дверка человеческих масштабов. Она открыта, сияющий прямоугольник, в раме - силуэт.
Тень распластана по полу, вытянута на долгие метры вперед от двери, будто раскатана огромным колесом. Кажется, она в платье.
- Аннели!
- Идите сюда!
Это не Аннели; какой-то мужчина. Его черты для меня неразличимы - свет бьет в лицо. Мной овладевает беспокойство, я перехожу на бег. Он не пугается, не пытается от меня спрятаться. Засада, решаю я. Ну и пускай.
- Где она?..
Хватаю его за ворот, проталкиваю внутрь. Он не сопротивляется.
Молодой парень, красивый и немного женственный, уж у меня глаз наметан. То, что я принял за платье - простая черная сутана. Священник?! Смуглая кожа, пробор, аккуратная бородка, большие печальные глаза. Исусик после парикмахерской.
- Где вы ее прячете?!
- Вы - друг Аннели? Тот, кого она звала? Это с моего комма она вас вызывала, я...
- Где Пятьсот Третий?! - я сдавливаю его шею. - Или это Рокамора?!
- Постойте! Я ничего не понимаю, клянусь вам! Я Андре, отец Андре. Аннели у меня на попечении.
- На попечении? У продавцов душ?.. Что за хер-рня?! Где она?!
- Отключите коммуникатор и пойдемте. Я проведу.
Я разжимаю пальцы, получается не сразу, он растирает свое горлышко, страдальчески перхает, улыбается мне паскудно-униженно, приглашает следовать за собой. Я вырубаю комм.
Озираюсь по сторонам.
Это, наверное, самое странное место из всех, где мне доводилось бывать.
Мы в зале размером с футбольное поле, потолки так высоко, что под них можно было бы втиснуть с десяток жилых этажей. Тут светло - но светом странным, тревожным, неприятным. И весь этот зал заполнен одним: сверху донизу, от края до края - большие прозрачные ванны, залитые мутноватой жидкостью, в которой купаются огромные бесформенные красные шматы. Какие-то в метр длиной, какие-то в три - они лежат неподвижно в своих лоханях, омываемые полупрозрачной влагой, настоянной не то на лимфе, не то на крови. Под потолком и промеж десятков ярусов этих стеклянных лоханей висят белые светильники, но их лучи пачкаются в сукровице и доходят до пола и до стен то ли желтыми, то ли алыми, дрожащими и неверными.
Дух тут стоит тяжелый, сырой, сильный.
Ванны соединены трубками, по которым струятся жидкости - чистые, грязные - снабжая красные шматы питанием, забирая у них отработанные вещества. Даже если не вглядываться в процесс, уже со входа кожей чувствуется: эти штуки - живые.
- Не пугайтесь. Это просто мясо, - мягко говорит мне отец Андре.
Ну да. То самое бизонье мясо. Не разводить же им в нашем перенаселенном мире живых буйволов. Чтобы такая тварюга выросла, травы на нее придется потратить в тысячу раз больше ее собственного веса, и еще воды, и солнечного света. Своими кишечными газами каждая может проесть дыру в озоновом слое, а у нас с этим и так не все ладно. Нет, настоящий скот разводят в паре недоразвитых стран, в Латиноамерике. Старый Свет питается выращенной чистой мышечной тканью, клеточной культурой. Ни рогов, ни копыт, ни печальных умных глаз, никаких отходов. Только мясо.
- Что у вас тут? Почему она здесь? Почему сама не вышла?
Какие-то от этих тяжелых красных пластов идут пузырики, питательная водичка вокруг них подрагивает, журчит, лучи преломляются о струйки и играют жутковатыми проекциями на полу. Между шеренгами лоханей - проемы, по которым катаются взад-вперед, вверх-вниз автоматы - тыкают мясо щупами, замеряют что-то. Нас они не замечают.
- Здесь нас никто не станет искать, - объясняет отец Андре. - Все механическое, а система обнаружения вторжения сломана. Мы тут уже давно живем, несколько лет.
- Мы?
- Мы. У меня тут... Миссия.
- Миссия, значит, - у меня кулаки сводит.
- Я покажу. Потом. Она вас еле дождалась.
- О чем ты?
Пройдя сквозь зал, находим дверку будто в мышиную нору, попадаем в небольшое техническое помещение, где должна отстаиваться уборочная техника. Похоже на сквот: между тонких пластиковых перегородок обустроены крошечные жилища, зачуханные людишки спят прямо на полу на тонких лежаках, доносятся какие-то писки... Дети. Точно, сквот.
- Она что?..
- Ян!
Аннели бледна и измучена, и волосы у нее отросли, но красота из нее не ушла: мои глаза, мои тонкие брови, мои острые скулы, мои губы... Ей тут выделили свой угол: двойной матрас, скомканное одеяло, стул, к постели приставлена какая-то коробка, на ней - дымящаяся чашка и настольная лампа. Другого света нет.
У нее огромный, просто гигантский живот. Она еще не родила, но это вот-вот случится. Я считаю: восемь с половиной месяцев.
Пытаюсь накрутить себя: она тебя предала. Она записала его на тебя. Тебе подыхать, лишь бы она могла нянчиться с этим... Этим...
И тут вижу в просвете: крестик из белого металла, лежит на вздувшейся груди. Какого черта он тут?..
- У меня схватки начались.
- Аннели хотела, чтобы вы были рядом, - объясняет за нее святой отец.
- Пшел вон! - рычу я на него.
Он утирается и смиренно убирается из нашего закутка. Я присаживаюсь, но не высиживаю и полминуты. Зачем на ней крест?! Как эти сектанты ее окрутили?!
- Спасибо, что приехал. Так страшно.
- Ерунда! - решительно произношу я, забыв, что собирался начать с дознания, что хотел немедленно требовать, чтобы она сняла этого... - Почему ты не в больнице? Не в родильной палате?
- С барселонской регистрацией? Я тут нелегально, Ян. Меня сразу сдадут полиции или твоим Бессмертным.
- Они больше не мои. Я уволился... Уволен.
- Я не хотела тебя во все это... втягивать. Извини меня, - она не отпускает мои глаза. - Но когда я узнала - от бывших твоих... После всего, что мне мама наговорила, и тот врач... Я подумала: это чудо. Если я сейчас чудо выскребу из себя, больше уже - никогда, ничего.
Помню, когда я увидел ее в первый раз - с таким маленьким, аккуратным животиком, то подумал, как она отличается от всех беременных - неряшливых, расхристанных, отекших. Но вот у нее этот громадный живот - и почему-то она мне не отвратительна. Я все готов ей простить, и даже это ее предательство.
- Я... Почему ты... Почему ты не спросила у меня? Ты должна была у меня спросить. Это решение... Я или ты. По правилам, конечно... Я бы и сам. Но... Меня нашли, мне вкололи акс, Аннели.
- Мне тоже.
- Что?!
Не могу сообразить; если инъекция уже была сделана ей - то вторая, моя, была незаконна! Значит, один из нас на самом деле имел право остаться молодым - я... Или она.
- Там их двое, Ян.
- Где? - в моей голове - пенопласт.
- У меня будет двойня.
- Двойня, - повторяю я. - Двойня.
По одной жизни за каждого. Она меня не сдавала Пятьсот Третьему. Не пыталась мне отомстить. Не сваливала на меня всю ответственность - просто разделила ее поровну.
Мне отчего-то становится легко, хотя всего минуту назад было объявлено, что вынесенный мне приговор окончателен и обжалованию не подлежит.
Она тоже уколота. Мы вместе в этой лодке.
Вот почему крест. Он выудил ее, рыбешку, этот отец Андре. Уколотым страшно. Смертным нужен бородатый. Только меня он не получит, вот что.
При таком освещении не видно, появилась ли у нее седина; лицо чуть отекло, и под глазами набрякли мешки - но это от другой болезни, наверное: от беременности.
Все равно у нас есть еще десять лет. А может быть, если переливание крови сработает, и больше.
Аннели позвонила мне. Она хочет быть со мной.
Она меня не предавала.
- Я по тебе соскучился.
- Твой ай-ди был заблокирован. Я пыталась разыскать тебе раньше.
- Я сидел в тюрьме. Идиотская история. Неважно.
Ей это тоже неважно.
- А что... Что с Рокаморой? С Вольфом? - я внимательно осматриваю тумбу-коробку: она из-под кухонного комбайна, очень интересно.
- Я от него ушла, - она присаживается повыше, берется за живот обеими руками; ее черты обостряются, ожесточаются.
- Понятно.
Из-за ширмы от соседей к нам сверху заглядывает пацаненок, года четыре ему. Видно, забрался там на стул.
- Привет! Когда рожаем?
- Проваливай! - я делаю вид, что швыряю в него что-то; мальчишка испуганно взвизгивает и падает назад, но воплей не слышно.
- Это Георг, мой друг, - Аннели смотрит на меня укоризненно.
- Падре тоже твой друг? - спрашиваю я подозрительно: вдруг я ревную ее ко всем.
- Друг. Он... Ему женщины не интересны, - улыбается она бледно. - Он хороший.
- Он отличный! - говорю я. - Продавец душ и собственной задницы. Я-то думал, их за это на кострах жгут.
- Не надо так. Я тут уже полгода живу, они меня пустили просто так, просто потому что я беременная.
- Потому что обрывать жизнь плода во чреве - страшный грех, равный убийству, - закоченело киваю ей я.
Слышал уже такое от одной женщины. Потому-то я и оказался в интернате, что она боялась нагрешить.
- Потому что мне было некуда идти. Кроме Хесуса, я в Европе никого не знаю.
Хесус. Она перестала называть его Вольфом.
- Ты полгода назад с ним рассталась?
- Почти сразу, как выбрались из Барселоны и...
- Как?.. Как вы оттуда ушли?
- Морем. Мы месяц с лишним просидели в подвале. Вроде бункера. На площади Каталонии. Мендеса отпустили через три недели. Потом я вышла наверх... И меня нашли. Бессмертные. Появились люди Хесуса, с континента. Отбили меня и забрали нас оттуда. Это если вкратце.
Вот оно что. Значит, ты все это время была там, рядом, в шаге. Значит, я просто плохо тебя искал.
Аннели гладит свой живот, морщится, кусает губу.
- Пинаются. Дерутся там, заразы. Хочешь потрогать?
Я застыл как вкопанный. Нет сейчас ни малейшего желания прикасаться к этому существу - даже через Аннели.
- Ссышь? - слабо улыбается мне она. - Ясно. Люди, конечно, не могли придумать более идиотского способа размножаться. Я в фильме «Чужой» последний раз такое видела. Смотрел в интернате?
- Нет.
- Зря. Понял бы, как я себя чувствую.
Мне становится смешно и стыдно. Я дергаюсь было - может, правда, дотронуться, сделать ей приятно? Но никак не могу себя перебороть.
- Что же ты с ним рассталась? С героем сопротивления? Или... Или это он? Когда узнал, что ты... Не от него?
- Я от него ушла. Потому что он урод, - тихо и четко выговаривает Аннели. - Урод и старпер.
- А раньше что же?..
- Я вернулась к нему. Простила его. Хотела его простить. За то, что он меня там бросил этим... Этим твоим. За то, что разрешил им меня распотрошить. Не спросив меня. Простила за такое. Я думала... Думала, что после того, как мы с тобой... Что мы с ним квиты. Хотела начать заново. Пыталась начать. Нужно было просто, чтобы он сказал мне: ты и только ты. Больше никто. Никогда. Как тогда, с этих турболетов. Почему он может этой сказать при десяти миллионах чужих людей, и не может повторить это с глазу на глаз?
Я отворачиваюсь: мне трудно, зло и неприлично это слушать.
- Все разрушил. Нажрался на радостях, когда мы выбрались, стал со мной откровенничать: я не злюсь на тебя, Аннели. Я тебе все прощаю. Ничего, что ты мне изменила. Ты молодая. У тебя кровь кипит. А я старик. Знаешь, сколько я всего повидал...
Мне хочется заткнуть ее, а Рокаморе глаза выдавить. Но я молчу и терплю.
- Я решила, он канючит, чтобы я его утешила. Это было бы даже мило. Нет, ты совсем не старик. Ты еще ого-го. А он говорит...
Она меняется в лице, елозит на своем матрасе, пытается устроиться поудобнее.
- Не надо больше. Тебе плохо? Позвать кого-нибудь?
- Надо. Мне надо тебе об этом сказать. Сейчас. Когда-то давно, когда я был молодой, говорит он, у меня была девушка. Влюблен в нее был без памяти. Кончилось у нас плохо. Она от меня ушла. По моей вине. Хотел ее вернуть, но было поздно. Совсем, окончательно. И с тех пор так любить у меня уже не получалось. Так любить, как в юности, потом не выходит. Это все в допотопные времена было, но я никак не могу ее забыть.
- Зачем такое рассказывать? - я раздраженно цыкаю.
- Бинго, - криво улыбается Аннели. - Зачем ты мне это рассказываешь, спрашиваю я у него. Я ничего не хочу знать про твоих бывших баб, их не было! А он отвечает: беда в том, что ты с ней - одно лицо. Когда я тебя увидел, решил, что это она вернулась на землю. Подумал, что мне дается еще один шанс. Снова полюбить, как тогда. Как черт знает когда. Романтик херов. И я пытаюсь... Пытался. Но ты - не она.
Ее глаза лихорадочно блестят; она приподнимается в постели: воспоминание о боли заставляет ее забыть про боль.
- Ясно, да? Он признался, что любит во мне напоминание о какой-то своей старой телки, на которую я якобы похожа! Понимаешь? Это именно то, что мне нужно было от него услышать. Что я - чей-то ремейк, дешевая копия! И что мне теперь - притворяться ей, чтобы сделать ему приятно? Я это я! Нечего наряжать меня в старые чужие шмотки! Я готова была все забыть - все! - но он должен был сказать мне, что ему важно быть именно со мной. Со мной, а не с клоном его старой бабы!
Киваю. Язык не поворачивается. Зачем я это узнал?
- Прости. Тебе неприятно, да? Я, наверное, делаю сейчас то же самое, что он. Но мне нужно было тебе честно все сказать. Вот: я жалею, что тогда сбежала от тебя. Жалею, что поверила ему. Жалею, что не поверила тебе. Что мы не попробовали тогда. Извини меня, пожалуйста. Ты, по крайней мере, видел во мне - меня. Хочется верить.
- Да.
Мне тоже... Мне тоже ты напоминаешь одну женщину, Аннели. Я никогда не говорил тебе об этом. И никогда не говорил об этой женщине хорошо.
Но это просто случайность, дело не в вашем сходстве. Дело именно в тебе.
- Ничего. Зато мы попробуем сейчас, - я сажусь у ее изголовья, беру ее ладонь в свою. - У нас еще есть десять лет. Мы все успеем.
Аннели не откликается. Сжимает пальцы. Потом шепчет:
- Мне страшно. Тут нет акушеров. Мне кажется, я умру, - ее пальцы бродят по шее, находят крестик, успокаиваются.
- Ересь! - отмахиваюсь я. - Родишь ты эту свою двойню, не переживай! Как из пулемета.
- Нашу, - говорит она.
Наверное, нашу. По всему получается, что нашу. Но как это в голове поместить?
- Спасибо, что приехал, - снова повторяет она. - Я, знаешь, как беременная кошка, которая гуляет не поймешь где, а рожать приходит к хозяину.
- Не знаю, - улыбаюсь я. - В моем кино такого не было.
Потом она смыкает глаза, а я просто сижу и держу ее за руку.
Через два часа у нее отходят воды; вокруг носятся все местные тетки, подают бесполезные советы, еле находят выстиранные тряпки и кипяток, не знаю уж, где они все это берут. Отец Андре в центре круговерти. Я готов вышвырнуть его, как только он заведет проповеди, но он обходится без наставительных речей или цитат из Писания, все по-деловому. Вот только сделать он может немного: условий никаких.
Нас учили, как у баб все устроено, все же в нашей работенке есть кое-что и от гинекологии. Но когда Аннели выгибается и начинает кричать, я забываю все, что знал.
Роды длятся бесконечно. Аннели потеет, лежит на своем промоченном матрасе, расставив ноги, набухшие груди выглядывают из растерзанной ночнушки, кто-то торчит между простыней, вокруг шляются чужие дети, отец Андре командует: воды, кипятить ножницы, сухое полотенце, тужься, тужься! Она плачет, запрокидывает голову и глядит на меня. Я глажу ее волосы, целую в соленый лоб, рассказываю ей, как мы уедем из этой гребаной страны, как только она оправится. Это страшно, мне страшно.
Показывается головка: какая-то девка зовет меня посмотреть, я не могу отпустить ее руку, Аннели орет так, будто из нее бесов изгоняют, тетки впадают в прострацию, я отлучаюсь - и вижу, как оно рвет ее, разрывает мою Аннели, те самые ее места, крохотные, тесные, нежные. «За плечи не тяни! Не тяни за плечики!» И выходит-таки - пунцовое, все покрытое слизью, странно пахнущее, неподвижное; вспоминаю, как рожали дома у Девендры, кричу: «Перетяни пуповину! Ниткой перетяни!», и сам вяжу узелки - один у красного надутого пуза, другой подальше, а священник режет змею-пуповину ножницами, и льется кровь, яркая-яркая, Аннели кричит, тетки подвывают, бесполезные твари, а святой отец переворачивает это существо, шлепает его по микроскопической сморщенной заднице, и оно оживает, и мяучет. Только теперь вижу: девочка. Страшненькая, слепая, красная. Почему я думал, что это будет мальчик?
- Дай, дай мне! - беру его на руки: не весит ничего, голова меньше моего кулака, все оно с ногами умещается от ладони до локтя. - Девочка! - показываю я ее Аннели; но она ничего не понимает.
Она дышит, дышит - ребенок верещит, и надо его куда-нибудь отдать. Аннели бледная, со лба течет, кто-то забирает у меня безымянную девочку, уносит - святой отец? - я сейчас нужен Аннели.
- Ну вот. Видишь, один уже вылез. Напряжемся чуть-чуть - и дело в шляпе!
Отец Андре заглядывает моей женщине туда, бесцеремонно - произносит непонятное: «Неправильно лежит!».
- Что значит - неправильно?!
- У второго. У него ноги вперед. Мы не вытащим.
- Вытащим! Сам выйдет!
Аннели плачет, грудь вздымается высоко и опадает, сердце колотится так, будто она тащит груженый вагон, будто пешком на тысячный ярус взобралась, второй ребенок не выходит никак, кто-то лезет помогать, Аннели шарит взглядом вокруг себя: «Ян, Ян, Ян, побудь со мной, побудь со мной, мне страшно, Ян...»
Я снова беру ее прыгающие, сведенные судорогой руки в свои, и говорю ей о том, что мне снилось: как мы гуляем по Барселоне, по живой пахнущей Барселоне, по этому чертову балагану, как глазеем на пустой горизонт, как трескаем жареных креветок; и небо над головой без дна, и море забито рыбацкими лодками, а где-то под ногами кипит Рамблас, еще не уснувший, с факирами, танцовщицами, мангалами со всевозможной белибердой, с китайскими карнавальными шествиями, с индусами и их карри, и их мечтами вернуться на землю, где стоит их священный храм; мы будем жить там, с ними, в этом городе, и купаться в море, и танцевать на улицах, и загорать на крышах чужих домов, какого черта мы должны вести себя прилично, нам ведь обоим еще нет и тридцати...
Я говорю, шепчу, смеюсь, плачу, глажу ее руки, лоб, живот - и я не помню даже, когда она перестает меня слушать, слышать меня, когда она замирает. Первым это замечает святой отец - отшвыривает меня в сторону, я тыкаюсь лицом в пол, вскакиваю, чтобы драться - а он: «Она не дышит! Кретин, куда ты глядел?!» - слушаю сердце: тишина, и в животе не шевелится никто.
- Как это?! Что?! Почему это?!
- У нее сердце! Сердце остановилось! Надо с ребенком что-то делать! Дайте нож! Дайте кто-нибудь нож!
- Нет! Нет! Не дам ее резать! Она живая! Лучше слушай! Просто слабо бьется! Слабо!
Какая-то баба притаскивает зеркальце, его прикладывают к губам Аннели - синим - и нет на нем ни росинки, нет тумана, нет жизни.
- Отвали! Отвали, сука! - я держу зеркальце сам; без толку.
Отец Андре хочет разрезать ей живот, но не знает, как. И я не знаю. И страшно повредить ребенку, а он уже не дрыгается там, он уже стих, пока мы суетились и орали друг на друга.
Потом, когда я уже отворачиваюсь, как-то его достают. Мальчик. Мертвый.
- У нее сердце. Инфаркт, - бубнит мне в ухо святой отец. - Мы тут без врачей ничего бы не смогли. Все равно не смогли бы.
Молочу его кулаком наугад, смотрю на свою женщину, на Аннели - распотрошенную, перемазанную, опустошенную. Опускаюсь перед ней на колени, убираю со лба волосы, перекладываю голову поудобней - тяжелую, как ядро, послушную, жутко. Шепчу ей в ухо то, что не говорил вслух: «Люблю тебя. Не надо, пожалуйста. Я тебя люблю. Я тебя только что нашел. Я тебя не хочу терять». Целую ее в губы - жар прошел, и жизнь вся пропала, и губы уже такие холодные, каких у людей не бывает. Притрагиваюсь к груди - стылое желе, пот высыхает.
Не понимаю.
Это она? Она или чужая кукла?
- Прибрал господь душу.
- Заткнитесь! Заткнитесь, твари!
Кто-то режет мертвую пуповину, заворачивает скрюченное малиновое тельце в тряпки, кто-то накрывает Аннели с головой простыней.
- Не надо! - кричу я. - Не надо. Я хочу на нее посмотреть еще чуть-чуть.
- Ее кормить надо! - звенят мне над ухом.
- Ее? - я оборачиваюсь на звук непонимающе, глаза застит водой.
- Ребенок есть просит! У тебя одна-то живая родилась!
- Да?
- Я покормлю! - кричат поблизости. - У меня осталось еще!
- На, на, затянись, - мне передают самокрутку. - Затянись, полегчает.
Я делаю дырку в губах, мне вставляют в нее папиросу, я тяну по команде, еловый дым наливается в меня, плывет закуток, едут стены, разглаживаются черты у Аннели, ей не больно, и мне становится спокойней, я тоже закрываю глаза.
Почему легче быть искренним с мертвыми?
Не знаю. Мы тут ничего не знаем про мертвых, совсем ничего.
Ночь я провожу рядом с ней. Лечь на ее матрас не осмеливаюсь - сижу на стуле. Утром с телом надо будет что-то придумать, говорит святой отец. О каком он это теле? Мне все равно.
Где-то там существует ее ребенок, который еще и мой, так сказала Аннели, но я не хочу его видеть, боюсь его поломать. Кто виноват в том, что она умерла? Я? Девочка? Мальчик? Безрукие повитухи? Кому мстить?
Я убираю простыню с ее лица.
Смотрю: нет, это не Аннели. А где же она?
Сверху через ширму за мной подсматривает соседский Георг, забравшись на стул.
Проживаю ночь без сна, в странном угаре, иногда мне кажется, что она глядит на меня, отомкнула веки и блестит зрачками, и губы как бы движутся, но слов не разобрать. Что-то не успела сказать, рассуждаю я в этом мороке. Ничего не успела.
Наутро вокруг нас собирается весь сквот - двадцать человек. Тут еще двое мужчин, остальные женщины и дети.
- Я хотел бы отпеть ее, - осторожно говорит отец Андре.
- Не смей, - улыбаюсь ему я.
Он надувает щеки, но смиряется. Потом - снова за свое:
- По христианскому обычаю усопшего следует земле предать. Но тут негде. Нет земли.
Точно, святой отец. В Европе земли нет, только бетон и композит, а растения все корнями в питательной жидкости барахтаются. Как же быть?
- На двести пятом ярусе измельчители стоят. Для мусора, - вспоминает кто-то.
Измельчители. Жечь - значит, транжирить энергию и органику. Быть истертым на удобрения - другого выхода отсюда у тех, кто решил умереть, нет.
Все же измельчитель.
Я пытался тебя от него спасти, Аннели, но мне удалось только отложить этот день. Я выбил для тебя девять месяцев отсрочки, но все заканчивается так же, как и тогда.
- Пусть, - отзываюсь я; кто-то другой за меня решает.
Бабы пытаются показать мне моего ребенка - вон какая милашка - завернутая в тряпку кегля, прилипшая к чужой измотанной груди.
- Да, да.
Не могу к ней подойти.
Мы выносим Аннели вчетвером на сложенных простынях, женщины сделали так, чтобы только лицо было видно. Мертвого мальчика ей положили на живот, примотали, спрятали. Я шагаю впереди, справа от меня отец Андре, позади двое мужчин. Проходим через зал с безмозглыми пузырящимися тушами, испачканный сукровицей свет играет на лбу моей женщины.
Идем по коридору, навстречу нам несутся слепые гиганты, угрожая размозжить всех нас за мгновенье, где-то за стенами дышат и ворочаются невидимые могучие механизмы, что-то штампуют, отливают, скручивают, производят. Жизнь идет своим чередом.
Садимся в великанский лифт, едем рядом с безразличными роботами вниз, пока не добираемся до нужного этажа. Там фабрика по утилизации органики. Я как у себя дома: эти устройства мне знакомы. Отыскиваем свободный саркофаг - воровато, пока мусорщики заняты в другом углу.
Святой отец украдкой крестит ее, шевелит губешками - но я занят. Я говорю Аннели «До свиданья». Он тем временем слоняется по залу - и возвращается с цветами. Пожухшими, измятыми желтыми цветами.
- Спасибо, - говорю ему я.
Мы кладем букет ей на грудь и опускаем тяжелую прозрачную крышку.
Потом я убегаю, трус, слабак.
Боюсь помнить, как она превращается в пыль. Не буду помнить ее вчерашней. Сохраню ее, как в Барселоне. Как на бульварах, как на набережной. Смеющейся, злой, живой. Куда мне ее девать мертвую? Как таскать за собой?
Выхожу в коридор, сажусь на корточки. На то, как ноги и руки Аннели размалывает измельчитель, глядят посторонние люди.
- Где она? - спрашиваю я у отца Андре, когда мы возвращаемся в сквот через зал с мясными ванными.
- О чем вы? - он останавливается.
- То, что мы несли в простыне - не она. То, с чем я ночь просидел - это не она. Не Аннели. То, что в измельчителе... Это ведь не она? А где она тогда? Где человек? Куда пропал?
Двое других идут к своим женам, детям.
Отец Андре не спешит отвечать.
- Куда это пропадет?
Он поднимает руку, машет на выстроившиеся в ряды, в эскадрильи лохани с огромными красными шматами. Куски мяса, несостоявшиеся мышцы огромного ничто: тяжко лежат, поглощают воду, выпускают шлаки. Ничего не чувствуют, ни о чем не помышляют, никуда не спешат и ничего не боятся, без нервов, без сухожилий. Пропитывает воздух густой вездесущий мясной выдох.
- Ты скажи.
- Откуда мне знать? - он качает головой. - Наверное, порежут, пожарят и сожрут, пойдут погадят и подотрутся.
- Да пошел ты! - я хватаю его за грудки. - Ты, мразь, говоришь мне, что она - мясо?! Что моя Аннели - просто мясо?!
Он высвобождается, отпихивает меня.
- Стой тут! - приказывает он. - Стой тут и смотри на них! И сам себе скажи, кретин, где она. Если ты разницы между ними и человеком не видишь, между ними и молодой девчонкой, которая любила тебя, которая жить любила, которая тебе дочь родила, не видишь... Значит, проваливай отсюда. Я тебе ребенка не отдам.
Он разворачивается на каблуках и, подметая сутаной пол, несется прочь от меня.
Не может быть, чтобы мы были такие же, думаю я. Эти туши, это же дохляк, в них нет души, в них ничего, кроме клеток, кроме молекул, кроме химических реакций. Если мы - такие, как тогда мы с Аннели встретимся?
Из каких-то недр зала с гудением выезжает огромная клешня, непостижимо, как рок, выбирает один из мясных кусков, впивается в него, выхватывает из ванной-утробы, из уютной жидкости, и уносит в никуда, как когти гигантского орла, как смерть.
Не хочу так.
Смотрю на свои руки в пигментных пятнах, в морщинках.
Так просто не может быть, чтобы это - все.
Прячу руки в карманы и иду туда, к людям - быстрее, быстрее, пока не перехожу на бег. Еще краем глаза вижу: какой-то шмат напрягается в своей стеклянной купели, поджимается - но, так, ничего и не достигнув, опадает и расслабляется снова.
- Так не может быть! - запыхавшись, я дергаю святого отца за рукав. - Не верю!
- И я не верю, - кивает он. - А точно - кто знает?
Он тоже, оказывается, ничего не понимает.
Как же мне быть? Как быть одному?
- Покажите мне его. Хочу посмотреть на ребенка.

- Я не знаю, что с ним делать.
- Это не он, это она. Девочка! - обиженно говорит веснушчатая Берта, та самая, у которой остается лишнее молоко после собственного сосунка.
- Я не знаю, что с ней делать. Мне надо идти. У меня есть дела. Я вернусь.
Я должен увидеть Шрейера. Пятьсот Третьего. Должен дознаться...
- Какие еще дела? Что ты придумываешь? Бери-ка давай, ясно? Это твоя дочь, нечего увиливать! Думаешь, я еще и укачивать буду? Мне со своим бы не надорваться!
И она всучивает мне туго спеленатый снаряд.
Моя дочь состоит из одного рта. Глаза у нее не открываются, лоб и щеки поросли мелким темным ворсом, будто она зачата от шимпанзе. Очень странно, что люди так выглядят в начале.
Первое, что мне приходит в голову: я никуда не смогу с этим выйти. Мне не добраться до Шрейера, не вытрясти из него правду, не расквитаться с Пятьсот Третьим, не извиниться перед Эллен. Седина в общественных местах вызывает недоумение, но сесть в тубу с младенцем на руках - все равно, что затащить туда жирафа на поводке.
Второе: это на всю жизнь. На каждый день из тех, что мне остались. Если я не оставлю ее тут, в приюте, и не сбегу, все пойдет наперекосяк. Я не смогу принять ни единого решения - все решения за меня будет принимать оно.
Третье: я правда не знаю, что с ним делать. С ней. Вообще.
- Как ее назовешь? - спрашивает меня отец Андре.
- Не знаю.
Чтобы обдумать ситуацию, у меня есть только полчаса. По истечении этого срока оно начинает пищать. Разевает свой огромный рот, жмурится и плачет, плачет. Пытаюсь положить его на матрас - оно мяучет еще жалобней, еще громче. Мне сделали трепанацию и прижигают паяльником извилины.
- Забирай! - я сую его Берте. - Я не могу.
- Хрена тебе! - она показывает мне средний палец.
- Я его качаю, оно не спит. Покорми его хотя бы.
- Оно обделалось, - говорит мне Берта. - Ему не нравится. Его можно понять.
- Ну... Сделай что-нибудь!
- Сделай сам. У моего зубы режутся, мне ни до чего сейчас.
- Какие еще зубы?
- Подержи! - у меня на руках оказывается сверток потяжелей, недовольный тем, что его упаковали, норовящий выскочить у меня из рук. - Вот, гляди. Взял, подмыл - кран у нас там, воду пробуй локтем, на ладонях кожа толстая, не дай бог обваришь ее или простудишь - подмыл, значит, и заворачиваешь в чистое. А это стирать. Я тебе тряпок дам на один день.
- А сколько надо на один день? - я, конечно, не запомнил, как его надо заворачивать.
- Сколько раз обделается, столько и надо. Шесть. Семь. Как повезет.
- Повезет, если вообще не будет, - пытаюсь задобрить ее я.
- Если вообще не будет, она так орать начнет, что ты повесишься, - заявляет Берта. - Все, давай моего сюда.
- У тебя он не такой... Пушистый, - говорю я. - С ним... С ней все в порядке? Это не отклонение? Почему у нее вся морда в шерсти?
- Раньше срока родилась, - отвечает Берта. - Скоро выпадет. Морда! На тебя, кстати, смахивает. Когда крестить будешь?
Я отнимаю его и ухожу.
Со своим пунцовым сморщенным лицом, шелушащейся кожей, кривыми и тонкими конечностями в складках, надутым пузом и подшерстком на спине и на лбу - оно не похоже ни на меня, ни на кого другого. Берта старается напрасно: я не чувствую, что это существо - мое. Оно постороннее, ничье.
Но все же я не бросаю его и не сбегаю. Может быть, потому что этот уродец - все, что осталось от моей истории с Аннели.
Я даже не оставляю его одного на матрасе. Оно все равно ничего не весит, мне проще держать его на руках.
- Чтобы через час покормил его! - говорит Берта. - Приходи ко мне, я тебе молока сцежу.
Но я прихожу к ней через полчаса, потому что оно проснулось и пищит, а подмывать его я еще так и не научился.
Принято считать, что дети едят молоко. На самом деле, они жрут время. Молоко они, конечно, тоже поглощают - когда не корчатся, пытаясь испражниться, или не утомились от первых двух действий и не забылись кратким тревожным сном. И мысли они сжирают тоже - все, кроме мыслей о самих себе. Так они выживают.
Сначала я думаю, что оно паразитирует на мне, потому прихожу к выводу: нет, это симбиоз.
Лишь только у меня образуется немного времени - я думаю об Аннели, о том, что она не была обречена, что все можно было повернуть иначе, исправить, что ее слова о смерти были не предчувствием неизбежного, а кокетливым страхом, что можно было бы найти частного врача, хирурга, если бы времени у меня оказалось хотя бы на сутки больше, если бы я представлял себе, как это будет трудно и как жестоко. И сразу же оно просыпается и поедает мое время, переваривает мою способность думать, превращает ее в свой желтый жидкий кал, пахнущий дурацки и безобидно; оно разрешает мне думать только о себе, заботиться только о себе, оно не хочет делить меня ни с кем, даже со своей мертвой матерью. Оно ревнует меня к ней, к Шрейеру, к Пятьсот Третьему, к Рокаморе. Я должен помышлять только о нем - или не думать вообще. Так оно избавляет меня от сомнений и от тоски, а я не даю ему умереть.
Берта еще раз предлагает мне его крестить, но я не бью ее, потому что она дает молоко.
Когда у Берты нет молока, оно тычется своим ртом-присоской в меня - и мне приходится прижимать его к себе, и оно приникает, глупое, к моей сухой груди, тычется, кусает ее беззубыми деснами - не понимает, почему там нет жизни, но не сдается. Сосет меня-пустышку - и успокаивается ненадолго.
- Потерпи, потерпи, - прошу его я; так я начинаю с ним разговаривать.
Никто не хочет его взять. А бросить его подыхать я не имею права. Оно ведь не только мое. Это тот ребенок, который не должен был появиться на свет. Все врачи отказали в нем Аннели - но он остервенело хотел быть и всех переспорил.
- Можешь пока остаться тут, - разрешает мне отец Андре.
Ему, по крайней мере, хватает чутья не заикаться о том, что ребенка надо крестить, и я пока остаюсь.
В сени парящих мясных туш живут два десятка человек. Питаются тем, что своруют в ванных, воду крадут у автоуборщиков, дома обустроили в подсобках. Кто-то из прежних сквотеров умел управляться с техникой, взломал механизмы так, чтобы они не замечали людей, и вот миссия отца Андре существует тут счастливо, как у Христа за пазухой. Как крысиное гнездо в хозяйском доме. Одна из этих крыс теперь - я.
Только я им чужой.
Они собираются на молитвы, для этого есть угол, исповедуются святому отцу о своих мыслях, потому что дел у всех на виду никаких не сделаешь, а он бубнит им что-то всепрощающе. Меня несколько раз зовут помолиться, я скалюсь на них так, что они отстают насовсем.
Мне неуютно тут, но больше идти некуда.
Даже если бы кто-то и принял подкидыша... Оставить его им? Позволить, чтобы оно выросло таким же, как они? Как этот лицемер в сутане?
Через несколько дней оно открывает глаза, но глядит мимо, нечетко, блуждающе - странный взгляд, я видел такой в резервациях, у стариков на последнем издыхании.
- Почему она на меня не смотрит? - спрашиваю я у Берты, стесняясь говорить при ней «оно». - Она не слепая? Она меня слышит вообще?
- Потому что ты не дал ей имя, - серьезно отвечает та. - Дай ей имя, и все наладится.
Имя. Мне надо назвать другого человека. Человека, который переживет меня. Это странно. На какой-то миг у меня появляется чувство, что это - самое ответственное решение из всех, которые я принимал. Я вспоминаю, как новорожденного в Барселоне назвали Девендрой в честь только что убитого Девендры, но мне не хочется, чтобы ее звали Аннели. Не могу решить.
- Ладно! - хмурится Берта. - Она и так будет на тебя смотреть. Первые дни у них перед глазами все вверх ногами и в расфокусе, как в очках на плюс пять. Дай ей время. И хватит называть ее «оно», я все слышу!
- Давай договоримся, - шепчу я ребенку. - Я перестаю называть тебя «оно», а ты начинай фокусироваться, только недоразвитого мне не хватало!
И она начинает фокусироваться; и оборачиваться на звук; и ловить мой взгляд.
В первый раз смотрит мне прямо в глаза. У нее глаза светло-светло-карие, почти желтые, я только теперь это замечаю и усваиваю. Почти желтые, хотя всем младенцам полагаются темно-синие, так мне говорит Берта.
У нее глаза Аннели. И хотя я знаю, что тот, кто глядит оттуда, изнутри, сквозь зрачки - другой человек, да и не человек вовсе, меня парализует, приковывает, я не могу оторваться, не могу насмотреться.
Озноб: я думал, когда мы придавили Аннели крышкой измельчителя, когда ее раздробило на молекулы, в этом мире от нее ничего больше не осталось. И вдруг оказалось: за маленькими отечными заклеенными веками, в самом неподходящем в мире месте - глаза Аннели. Резервная копия. Сделанная специально для меня.
Но это не все.
Еще пальцы. Ее кулаки - размером с грецкий орех, а пальцы такие крошечные, что неясно, отчего они сами по себе не хрустнут и не переломятся. И эти пальцы - точная копия моих. Я замечаю это случайно - когда она хватается всей пятерней за мой указательный, и ей еле хватает длины, чтобы сомкнуть их.
Такое же расширение у срединного сустава, такие же набалдашники у ногтя; и сам ноготь точно такой же. Лицо у нее остается ничье, краснота уступила место желтизне, она кажется смуглой, и не похожа ничем ни на меня, ни на Аннели - но вот пальцы у нее уже от взрослого человека.
Мои пальцы на этом лемуре. Зачем они ему?
Она отменяет для меня дни и ночи - а сама существует по какому-то дикому графику: просыпается есть и гадить каждые три часа, и, вымытая, засыпает снова, будто она не с земли вообще, а с какого-то астероида, который совершает восемь оборотов вокруг свои оси за одни земные сутки. Пожалуй, и выглядит она, как инопланетянин.
И я тоже живу так: сплю час, потом два не сплю: кормлю, мою, укачиваю, стираю.
Злюсь на нее, как на взрослого, когда она не желает укачиваться.
Ору, если она капризничает зря.
Потом Берта, или Инга, или Сара объясняют мне: она не может срыгнуть, у нее воздух стоит, поноси ее столбиком, ей плохо, ей больно.
Так я расширяю свой список того, от чего ей может быть плохо и больно. Наоравшись на нее вдоволь, я чувствую вину - и не знаю, как ее загладить. Учусь делать так, чтобы от чужого молока у нее не болели ее кошачьи, микроскопические кишки: кладу ее на свой голый живот, от тепла спазм проходит.
После двух недель в первый раз оказываюсь у зеркала. Жду увидеть там развалину, боюсь даже взглянуть на себя - и вдруг замечаю, что мои морщины разглаживаются, кожа молодеет. Это странное лекарство, чья-то кровь, которой меня заправили, работает.
Старость отступает.
- Мы еще повоюем! - обещаю я ей. - Не сдаваться!
Она ничего мне не отвечает. Она не понимает моих слов, но когда я говорю спокойно - она успокаивается.
Я учусь подмывать ее - спереди назад, объясняет мне Инга, или Берта, или Сара, иначе кишечные бактерии могут попасть внутрь, будет воспаление; перестаю обращать внимание на то, что она там устроена, как девочка, как женщина, а не как бесполое существо, которым является на самом деле; перестаю брезговать ее желтым пометом, ее кислой отрыжкой, бесконечной стиркой. Я делаю все, что должен делать.
Стоит ее распеленать, как она пытается ползти - по-червячьи, не умея поднять голову и повернув ее вбок, прижав сведенные ручки к телу, отталкиваясь одновременно двумя ногами, тараня своей огромной лысой головой пространство. Рефлекс, говорит мне Сара.
- Жаль, мама тебя не видит, - говорю я.
Я называю Аннели «мамой». Это и неловко, и непривычно, и неуместно.
За все это время я не притронулся к ее вещам. Они так и лежат в коробке из-под кухонного комбайна, и я даже не заглядываю внутрь, может, потому что боюсь найти там ее воспоминания о Рокаморе, а может, потому что не хочу наткнуться на свои воспоминания о ней. Обхожу коробку стороной, будто ее там нет, но и не позволяю прикасаться к ней никому другому.
С отцом Андре у нас держится какое-то время пакт о ненападении, но однажды он его все-таки нарушает.
- Было бы хорошо покрестить ее, - говорит он мне как-то. - Ребенок не представлен богу. Имени нету. Если что случится...
Зря он это; я ведь почти к ним привык.
- Слушай, ты, - я стараюсь не менять интонации: она чувствует мою злость. - Слушай, ты. Я у тебя в гостях, поэтому руки распускать не буду. Но мне твоя страховка не нужна. Я тебе еще эту байду на своей женщине не простил, ясно?!
- Сделайте это ради ребенка, - все же пытается он.
- Тебе-то это зачем? - шиплю я. - У вас там за завербованных бонусы начисляют?
- Мой долг - дать вам утешение. Привести заблудшую душу к...
- Утешение? - я опускаю ее на матрас, выталкиваю святого отца из нашего закутка. - Утешение, значит. Ну да, конечно. Моя девчонка умерла, ее твоя байда не спасла. Но я как бы этого не заметил, да? Я же в печали, так? И сам я уколотый, тоже скоро ласты склею. По всем признакам, твоя клиентура, да? Ты как стервятник. Смерть чуешь - и поближе к ней, поближе. Еще и ребенка тебе подавай, схаваешь. Что, думаешь, я как эти твои? - я киваю на встревоженных Сару-Ингу-Берту. - Как овечки твои заблудшие, которых ты своему боженьке гонишь? У тебя тут тоже ферма, а? И тоже мясная. Только я не превратился в барана оттого, что мне акс вкололи. Я к твоему боженьке не побегу, оттого что мне помирать завтра.
- Думаешь, ты сильный? - исусик держит оборону: я отпихиваю его, он возвращается, упрямец. - Думаешь, бог только смертным нужен? Да бессмертным он еще нужнее!
- Что же он обанкротился-то тогда?! Что бизнес-то сдулся?
- Ты чего к нему пристал, а?! - подскакивает ко мне Ольга, психованная вобла. - Ну-ка отвали от нашего кюре! Отвали, сказала, а то мужа позову!
- Тебе разве уютно было жить, не зная, зачем? - отец Андре жестом примораживает безумную бабу. - Тем более - вечно! Без смысла...
- Неуютно подыхать без смысла, а с жизнью все как-то справляются! Живут себе сто двадцать миллиардов и в ус не дуют!
- И таблетки жрут вагонами! - он распаляется, краска заливает его нежную кожицу изнутри, и он бросает свою благостную манеру. - Зачем жрут антидепрессанты по утрам вместо витаминов?! От хорошей жизни?! Потому что человек не может без смысла, без цели! Потому что ему нужно это. А эти что выдумали? Таблетки предназначения! Иллюминат? Иллюминат. Вытянули какую-то дрянь из грибов - нате! Принимаешь - рецептор замыкает в мозгу - и все вокруг обретает смысл, во всем видится промысел. Только привыкание у людей к этому! Вот где бизнес-то!
- Ага! Конкуренты выдавили! - кричу я. - Сам признаешь, что достаточно таблетку принять! И вот оно тебе: просветление, смысл! Все химия! Гормоном ты на рецепторы давишь или таблеткой, какая разница? Нас и таблетки устраивают!
- А разница в том, что лентяям потакают! Что скотину из людей делают! Комбикормом пичкают! Да каким кормом? Питательной жидкостью! Как бизонов этих! - он кивает на мясной зал. - Душе работа нужна! А вера - это работа! Надо собой работа постоянная! Упражнение! Чтобы не оскотиниться, в мясо не превратиться! Что бы вы без своих таблеток делали?
- А твой боженька - для тех, кому таблетки не помогают! А те, у кого все в порядке, вертели его как хотели!
Святой отец тычет мне пальцем в нос, будто подловил меня. Остывает - и продолжает уже победно:
- Да! Он для тех, кому таблетки не помогают. Это и есть утешение.
- Какое тут утешение? Он одни обещания раздает! А ты пойди проверь, что там выполнено, а что нет! Оттуда еще никто не возвращался!
- И что же он тебе пообещал? - спрашивает отец Андре.
Что?! Защиту! Спасение! Покровительство! Что все будет, как есть! Что я останусь с ней, с моей матерью! Мне и ей обещал! И обоих нас...
- Да пошел ты! - мне хочется вломить внутрь его изящный носик, чтобы он юшкой своей умылся. - Я-то знаю, чего ты к нему присосался. Хочешь его, а? Знаю твои секретики! Тебе бы, пидору, лучше, чтобы там не было ничего, после смерти. Тебе ведь гореть, гореть там за твои маленькие слабости!
- Ты как с нашим падре говоришь?! - поднимается со стула один из мужчин, Луис, размерами и прической похожий на бизона Вилли. - Не таким, как ты, его судить, понял?!
Мне плевать на них; я готов сейчас разделать тут всех. В моем углу за ширмой пищит она - я слышу краем уха, но барабаны громче.
Отец Андре становится вишневым, я врезал ему ниже пояса, но он ничего - сдюживает. Произносит тихо и уверенно:
- Я не выбирал этого. Это он меня таким создал.
- Зачем?! - смеюсь я. - Со скуки?!
- Чтобы я пришел к нему. Чтобы я ему служил.
- Да ты даже служить не имеешь права! Ты грешник! Грешник! Это он тебя таким создал? Зачем?!
- Чтобы я был всегда виноват. Чтобы ни делал, всегда был виноват.
- Отлично!
- Потому что мир безбожный, - твердо говорит Андре. - Как еще меня было призвать? Как еще заставить понять свое место?
- Какое место?!
- Людей спасать. Души спасать. Наставлять.
- И зачем тебе это? Все равно ты с ним не расплатишься! Хоть успасайся, одно другое не искупает!
- Не искупает, - спокойно кивает святой отец. - Я знаю. Мне на ноги груз примотали. Таз с цементом. И в море бросили. И я должен выплыть. За воздухом. Я не могу выплыть, я знаю это, но я все равно плыву. И сколько смогу, буду.
- И где же его любовь, о которой вы во всех рекламках пишете?!
- Это испытание. Он меня испытывает. Он испытывает всех нас. Всегда. Это и есть смысл. Как без испытания себя узнать? Как измениться?
Я нахватываю воздуху побольше, чтобы макнуть этого святошу с разодранной задницей в его дерьмо, но давлюсь. Ребенок плачет все громче: это я его тревожу.
Ничего, просто... Просто слово знакомое услышал.
- Я знаю: я потому таким создан, что я его должен был стать его орудием. Я не могу заслужить прощения, не могу успокоиться. Значит, пока жив, буду служить. Я мог отчаяться. Мог отвернуться. Но это значило бы: я слабый. Поэтому я буду грести.
- И греби, - выдыхаю я. - И борись. Хочешь быть его орудием - валяй. А мне такой смысл не нужен. Я не инструмент. Ничей, и уж точно не ваш с ним. Я не для того, чтобы мной пользовались. Ясно?! И у меня нет больше гребаной вечности, так что скучать мне не придется!
Тут уже мне приходится бросить поле боя и бежать: она расходится, плачет так громко, что я полчаса не могу ее утешить никакими приседаниями и улюлюканьями.
Берта после нашей ссоры с падре не хочет со мной говорить. Ничего, доит себя молча, и молоко у нее от ненависти ко мне не скисает.
Странно, но после этого раза мне больше нечего сказать Андре. Вот я, выплеснул, что было, и иссяк.
По правде, я даже слышу в себе уважение к нему. Он как Тридцать Восьмой, который не побоялся в единственный свой разговор с отцом признаться ему во всем. Слабаки так не умеют.
Я стараюсь существовать отдельно от них, хотя они великодушно прощают меня, богохульника, и каждый вечер зовут разделить с ними ворованное мясо летающих бизонов. Я забираю свой кусок и еду к себе, качать ее, убаюкивать, подмывать и обстирывать.
Ей месяц, наверное, когда это происходит точно, как бы само собой: она начинает поднимать голову. Прежде ее голова была ей слишком тяжела, придавливала ее к постели, а, держа на руках, ее приходилось прислонять, чтобы она не отломилась ненароком. И вдруг из Бертиного лишнего молока, из моего времени и бессонных ночей, она накапливает сил достаточно, чтобы оторвать голову от земли - трясясь от напряжения и совсем ненадолго.
И мне это кажется победой: у меня ведь нет теперь других побед.
Еще понимаю, что стал замечать чужих детей, и даже знаю их по именам. У Берты - Хенрик, десятимесячный. У Сары - девочка двух лет, Наташа. Георг - это сын лохматого Луиса. А у Инги-одиночки - маленький Борис, которому она все время рассказывает, как на месте мальчика поступил бы его папаша.
Георг и Борис лазают без спросу по стеллажам с мясными ванными, макают в красное пальцы и рисуют на полу космические корабли, которые унесут всех лишних людей с Земли завоевывать далекие планеты и спорят, можно ли строить города на морском дне; Георг считает, что кислород можно получать прямо из воды, и придумывает приборчик, который можно будет брать с собой в море вместо акваланга. Борис говорит, если бы люди летали в космос, его папа обязательно был бы астронавтом и взял бы его жить с собой на Луну. Потом за ним приходит Инга и забирает сына обедать.
- Что-то ты выглядишь не очень, - хмурится, глядя на меня, Инга. - Измотал тебя малыш. Глянь, что с лицом. И с волосами.
- Месяц не сплю, - жму плечами я.
Но, подойдя к зеркалу, пугаюсь отражения.
Дело не в недосыпе. Из-под мальчишеских рыжих волос, моей показушной молодости, лезут безжизненные белые корни. Не только по вискам, как это было всего недавно - а и выше, на лбу, и на затылке. Хуже: лоб увеличился, забирается все выше, двумя вырисовывающимися залысинами стремится к макушке.
От крыльев носа ко рту кто-то проделал мне ножом два глубоких надреза, исполосовал лоб. Кожа посерела, и вся проткнута щетиной - даже там, где у меня никогда ничего не росло.
Ерунда, говорю я себе. Такого не может быть. У меня есть еще десять лет. Минимум десять лет - я ведь прошел эту терапию, во мне ведь струится ссуженная мне молодая кровь.
Чтобы не гадать ни о чем, я начинаю чураться зеркал - но все мои мысли, обо что бы они ни бились, ни звенели, в конце как пинбольные шарики все равно - неизбежно - скатываются в лунку надвигающейся старости.
Если бы я мог найти Беатрис Фукуяму... Если бы я только имел понятие, где ее искать! Люди Рокаморы освободили ее, потому что имели на нее виды. Потому что она разрабатывала лекарство, которое могло сломать акселератор, вылечить неизлечимых. Наверняка она сейчас снова за работой, в который раз убеждаю себя я. Наверняка.
Потом отец Андре приводит к нам Анастасию.
Подобрал ее где-то на пересадочной станции, когда ездил за лекарствами. Анастасия изъедена акселератором примерно наполовину, глаза у нее все время шарят по сторонам, она, не затыкаясь, несет околесицу.
Трудно точно разобрать, что там она бормочет, но, кажется, она из большого сквота, который находился в нелегально заселенных подвалах одной из жилых башен, на минус каком-то круге ада. С нами был Клаузевиц, говорит она, номер один в Партии Жизни, его семья и его охрана. Три дня назад сквот взяли штурмом Бессмертные, Клаузевица забили до смерти, сбежали всего четверо, пробрались через канализацию. Что с остальными, неизвестно.
У Анастасии там остались муж и двое детей, мальчик и девочка. Мальчика зовут Лука, девочку - Паола. Второй ребенок нелегальный, не решились регистрировать.
Когда вломились Бессмертные, муж схватил детей в охапку и побежал вперед, Анастасия спутала коридоры - и потому спаслась. Теперь она сошла с ума.
Не знаю, что там с ее детьми, а поводу Клаузевица я не верю ни единому слову: новости до нас доходят исправно, и никаких репортажей о его ликвидации или аресте не было, а ведь якобы прошло уже три дня.
Нет, такое событие замолчать нельзя.
Анастасия не хочет идти жить в наше гнездо, она остается в мясном зале, смотрит безотрывно на сочные красные шматы и разговаривает с ними беззвучно. Ее кормят - она ест, поят - пьет, но воли в ней не больше, чем в этих тушах.
В одну из ночей у ребенка колики, она превращается в стальную рессору и верещит так, что шикают на меня все двадцать обитателей сквота. Послав всех поименно к чертям, я выношу ее в мясной зал, и пританцовываю там с ней, рассказывая приукрашенную историю знакомства с ее мамой. И так натыкаюсь на Анастасию.
Та не спит: она вообще, кажется, не сомкнула своих воспаленных глаз за все дни, которые тут провела. Уставилась на меня завороженно, слушает мою неуклюжую колыбельную-самоделку, и улыбается мне - всклокоченная, поседевшая, нестарая еще, но уже вся иссушенная. Я хочу было разузнать у нее про Клаузевица поподробней, но она не слышит меня. Начинает подпевать - не попадая в мои косые ноты, поет какую-то собственную песню, слащавую и заунывную.
Я разворачиваюсь и ухожу, оставляя ее баюкать парящее стадо.
На следующий день отец Андре возвращается из вылазки с пакетом антибиотиков и снотворного; говорит, в новостях жена Клаузевица рассказывает о его самоубийстве: рядовые члены Партии Жизни повально сдаются властям, мой бедный Ульрих пал духом, не помогали даже антидепрессанты, он день и ночь твердил, что нет сил продолжать борьбу, бла-бла-бла, мой бедный Ульрих. Беринг проявляет великодушие, отпускает ее с миром.
Теперь Рокамора будет вторым по значимости в их организации, а то и первым, размышляю я. Если, конечно, и он уже не убит, а его скальп просто не берегут для какого-нибудь подходящего случая: скажем, под выборы.
Но если он жив, то, как первый номер, должен все знать о делах партии. Должен знать, где Беатрис. Если бы до него добраться...
Но как уйти? Куда?
Вечером я оставляют ребенка под присмотром Инги, живот скрутило, невозможно жрать одно мясо, желудок в последнее время не справляется.
Возвращаюсь через семь минут: Инга пытается утешить собственного мальчонку - упал и разбил колено в кровь, воет невозможно, она приводит ему в пример характер отца, которого мальчик в жизни не видал; мой матрас пуст.
Матрас пуст!
Там, где я оставил ребенка - ничего. Простыня промялась чуть-чуть, лампа сбилась. Упала?! Уползла?!
Хватаю лампу, вздергиваю ее над головой, как идиот, свечу по всем углам - хотя ясно ведь, что не умеет еще она так ползать, что я оставил ее запеленатой - специально, чтобы никуда не делась.
- Где она?! Где - она?! - я подскакиваю к Инге. - Где мой ребенок?!
- Да там же, на матрасике лежит, у меня Борис упал, гляди как колено ссадил, у тебя нечем протереть? - она даже не смотрит на меня.
- Куда?! Делся?! Мой?! Ребенок?!
Выскакиваю в общую комнату - и во мне откуда-то такой берется страх, какого я до сих пор в себе не знал. Мне не было так страшно, когда меня били паки в Барселоне, когда Пятьсот Третий колол меня аксом; а теперь открылась внутри язва-пропасть и в нее проваливаются все мои потроха. Я кидаюсь к одной мамаше - где она?! - к другой, заглядываю в лицо ее младенцу, хватаю за грудки ошалевшего Луиса, лезу в колыбель к Берте, требую ответа от Андре. Никто ничего не видел, никто ничего не знает, а куда мог испариться полуторамесячный младенец из закупоренного помещения?!
Она как рука моя, как обе ноги - проснулся, и вдруг их нету, отняли: такая же жуть, и еще страшнее.
Вылетаю в зал, уже окруженный сочувственной куриной свитой - и нахожу.
На краю ванны сидит Анастасия.
Меня она не видит, никого из нас не замечает. Глядит только на сверток, лежащий у нее на руках. Там моя дочь.
- Баю-баааай, баю-баааай, спи, Паола, засыпаааай...
Я приближаюсь к ней осторожно, чтобы не спугнуть, чтобы она не упала в ванну, не утопила в утробной жидкости моего ребенка.
- Анастасия?
Та поднимает на меня глаза - блестящие, стеклянные. Анастасия плачет.
От счастья.
- Вот она! Нашла ее все-таки! Чудо! Нашла мою маленькую!
- Дашь мне ее подержать? Какая она красивая! - выговариваю я громко, искусственно.
- Только на секундочку! - Анастасия хмурится-улыбается недоверчиво- польщенно.
- Конечно. Конечно.
Я принимаю сверток - ребенок спит. Хочу столкнуть эту безумную бабу в лохань, к мясу, вжать пятерню ей в лицо и утопить ее в ванне, в сукровице, но что-то заедает во мне, и я просто ухожу.
Мне жалко ее. Ржавчина меня разъедает, видимо.
Анастасия даже не понимает, как ее обманули - глядит мне вслед обиженно, растерянно, квохчет: «Куда? Куда опять?».
- Если ты ее отсюда не уберешь, я за себя не отвечаю, - предупреждаю я отца Андре.
И на следующее утро он ее куда-то перепрятывает.
Не знаю, когда этот сверток в меня врос. Нельзя назвать один день. Это ночь за ночью происходило, плач за плачем, пеленка за пеленкой. Со стороны кажется: ребенок расходует родителя, тратит - его нервы, его силы, его жизнь - на себя, и как только потратит всего, тот просто вышвырнет его на помойку, и дело с концом.
Изнутри все не так: он не сжирает тебя, а впитывает. И каждая минута, которую ты с ним провел, не в желтое дерьмо превращается, не в грязь. Я ошибся. Каждый час остается в нем, становится тысячей клеток, которыми он прирастает. Ты видишь все свое время, все свое усилие в нем - вот же они, тут, никуда не делись. Ребенок, оказывается, состоит из тебя - и чем больше себя ты ему отдаешь, тем он тебе дороже.
Странно. В такое не поверишь, пока сам не попробуешь.
Началось с того, что я полюбил в ней Аннели. Но теперь я люблю в ней себя.
Ее лицо меняется каждую неделю, и, если бы я отлучился на месяц, я бы, наверное, не смог ее узнать. Проходит желтуха, мнимый загар, в коже проявляется молочно-розовый оттенок, и уже давно исчез подшерсток с ее лба и щек, со спины. Ее голова переросла мой кулак, а сама она стала вдвое тяжелей.
Всего два месяца со смерти Аннели.
Мы с ней вроде как взаимодействуем: если я бешусь - она плачет, я ее баюкаю - может уснуть; она издает какие-то звуки и может глядеть мне в глаза. Иногда смотрит подолгу - пять, шесть секунд. Но это не человек. Зверек, наверное. Зверек, которого я выхаживаю и пытаюсь приручить. Когда она поест - улыбается, но это так, рефлекс: уголки губ ползут вверх самопроизвольно, но в этом ничего человеческого, просто выражение сытости, животного довольства.
А потом происходит взрыв.
Она будит меня ночью - промочила пеленки и хочет есть - я пробуждаюсь с первого ее всхлипа, потому что теперь я так устроен, выпутываюсь из сна, неприятного, злого. Разворачиваю ее, вытираю насухо, беру на руки.
Был в интернате, опять был в интернате; и опять пытался сбежать. Это я вижу чаще всего, мой идиотский побег в сгоревший экран. С вариациями: иногда Двести Двадцатый не предает меня, иногда я скитаюсь по бесконечным белым коридорам с тысячами дверей, дергаю их все - и все заперты, иногда мы бежим вместе с Девятьсот Шестым - но заканчивается это одним и тем же: меня излавливают, мои сообщники голосуют за мою смерть, и меня казнят в больничной палате, душат, прикрутив тряпками к кровати, а Пятьсот Третий потягивает из трубочки мою жизнь и для развлечения теребит себя.
Я вспоминаю свой сон, забыв, что мне нужно кормить ее, что пора идти клянчить бутылочку с молоком у спящей Берты, что вот-вот - и ребенок разойдется, и тогда мне ее уже так просто не уложить.
Вспоминаю его, Пятьсот Третьего, его пьяный взгляд, его прихвостней, его слова. «Улыбайся...» - разрешает он мне перед смертью. Мои скулы свело. Я улыбаюсь, улыбаюсь наяву, с самого своего пробуждения, и обычная улыбка-судорога, ответ на все вопросы, крепко сидит на моем лице.
А потом.
Что-то мешает мне. Что-то отвлекает от кошмара. Внизу. У меня на руках.
Она смотрит мне в глаза, мне в рот.
И улыбается тоже.
Отвечает своей улыбкой на мою. Возвращает мне в первый раз то, что она принимает за радость. Она понимает меня - думает, что понимает.
В ней очнулся человек.
Мурашки бегут у меня по загривку, мурашки бегут по коре мозга.
Она что-то гулит тихонько - смотрит на меня - и улыбается. Забыла про свое молоко. Учится у меня улыбаться. У меня.
Выдернули у меня из затылка, из основания черепа, позвоночник, надели мою башку на тысячевольтный кабель, на раскаленный железный штырь - и насаживают, насаживают поглубже.
Улыбка у нее забавная - невыученная, кривоватая, беззубая. Но не та, что от сытости, не механическая, а настоящая. Я верю, что она сейчас это в первый раз почувствовала: радость. Проснулась посреди ночи мокрая, увидела меня, я обтер ее, сделал ей хорошо, она узнала меня - и рада, что я тут. Я ей улыбнулся - а она мне.
Смешная какая. И красивая.
И я улыбаюсь ей в ответ.
А потом понимаю: могу наконец отпустить губы. Судорога прошла.
Остаток ночи мне видится Аннели, наша с ней поездка в Тоскану, пикник на траве, как будто мы живем в сторожке на вершине холма, там, где тайный вход и сколоченный из дерева стол, живем втроем - я, она, и наша дочь, которую во сне зовут как-то - и красиво. Гуляем по долине, Аннели кормит ее грудью, я обещаю однажды сводить их на тот берег речки, показать им дом, где я вырос. Еще я кошу траву - высокую, сочную, пока у меня не поясница не отваливается, а спасает меня Аннели: кричит обедать. Едим кузнечиков, пальчики оближешь, Аннели воркует с ребенком. Я старательно запоминаю, как ее зовут, нашу дочку, но к утру от имени ничего не остается - только спертый воздух, как и от Аннели, как и от нашей счастливой жизни в Тоскане.
Проснувшись, я не могу понять, что это был сон: спина же болит, болит по-настоящему! Это потому что я траву косил, больше не от чего.
С трудом разгибаюсь, поднимаюсь кое-как. Нет, не косил, не обедал, не жил. Просто болит спина. В первый раз без причины.
На подушке валяются волосы: рыжий поблек, тусклое серебро отросло.
Иду умываться, беру ее с собой, смотрю на нас в затуманенное зеркало. Стекло заколдовано: ребенка оно отражает точно таким, каким его вижу я, а с моим отражением творится что-то неладное.
Мешки под глазами, залысины вклиниваются все дальше, седины столько, что веселая детская шапочка ее уже не вмещает. Причесываюсь одной рукой - между пальцев торчат выпавшие волосы. И кишки ноют, ноют от этого проклятущего мяса.
Меня обманули.
Что бы они там ни вкачали в меня вместо моей ржавой крови, оно меня отравляет. Дало мне короткую передышку, фальшивку-надежду, и выдохлось; а старость принялась за меня с утроенной силой.
А может, они вот так эксперименты ставят, на людях, как алхимики. Смешают ртуть с дерьмом и томатным соком - и в вены заливают тем, кто отчаялся. Авось, сработает на ком-то. Или ни на ком, ну и что - они ведь пять пакетов томатного сока на вес золота продали.
Я сыплюсь, ломаюсь, деградирую. Спина, желудок, волосы. В старом кино так выглядят те, кому за сорок, а ведь не прошло еще и года с инъекции!
Она плачет.
Я качаю ее, качаю, шепчу ей какую-то белиберду, но она не понимает слов, а только интонации - и рыдает еще безутешней.
Вернуться в их лавку, разгромить ее, задушить зализанного доктора? Он все равно не знает, как отдать мне мои годы. Я буду рисковать собой зря.
Нет. Мне надо к ней. К Беатрис.
Если она не сумеет сотворить со мной чудо - никто не сумеет.
Бреду через зал с мясными ваннами - к себе. В самой гуще туш сталкиваюсь с двухлетней Наташей, дочкой Сары. На ней - крошечное желтое платье, и в этом своем платье она выглядит, как настоящая маленькая девочка, несмотря на то, как мать обкорнала ее криво, как пацана.
Наташа раскинула руки в стороны, задрала голову и кружится, кружится.
- Небо! Небо! Небо! Небо! Небо! Небо-небо-небо-небо! - тонко кричит она и смеется.
Я не успею увидеть, как моя дочь научится говорить и танцевать.
Не знаю, где искать Беатрис, но я могу достать Рокамору.
Аннели не сразу с ним рассталась. Какое-то время они прожили еще тут, в Европе. В какой-то конспиративной квартире, в убежище... Может, среди ее вещей есть что-то... Какой-то намек. Указание.
- Небо-небо-небо-небо-небо!
Вхожу к нам, укладываю ее, тру пальцы друг о друга, распечатываю коробку.
Дешевые побрякушки, белье, ее коммуникатор.
Вот оно.
Включаю его. Листаю вызовы, снимки, посещенные локации. Сверяю с датами.
Треньк. Сообщение от Рокаморы. Треньк. Еще одно. Треньк. Еще. Треньк. Они валятся десятками, за все последние месяцы. Кажется, комм был отключен с самого ее побега. Треньк. Треньк.
Отмена. Отмена. Не хочу читать его сраные угрозы, сраные сожаления, сраные мольбы. Стереть. Стереть все.
Просмотреть видео и фото.
Три, пять, десять снимков, сделанных точно в нужное время в одном и том же месте: сколоченная из досок хибара с выжженным силуэтом кенгуру на деревянной табличке. Рожа Рокаморы. Башня «Вертиго», восьмисотый уровень. Отправляю гео-метку себе.
Вырубаю ее комм. Потерпи, Хесус.
Приеду - и поговорим.

Станция «Промпарк 4451» погребена в земле: ее платформы предназначены для тяжелых товарных составов, а не для хрупких колбочек пассажирских туб; а все грузовые трассы в Европе упрятаны от глаз обывателя.
Тут, внизу, детекторы присутствия работают исправно. Стоит дверям лифта поползти в стороны, как по далекому потолку волной разжигаются светодиоды, вытаскивая из совершенной, космической темноты необозримое хмурое пространство с голыми стенами, бесперебойно работающие автоматические краны-погрузчики и широченные колеи для мрачных товарняков, похожих на гигантских многоножек. От одного туннельного жерла до другого - километр, не меньше - но многоножки не влезают сюда и наполовину. Набивают чем попало свои множественные желудки, переползают чуть дальше - и краны принимаются пичкать неизвестным барахлом их пустые сегменты. Все они прекрасно обходятся без людей; кажется, я попал на колониальную базу землян в чужой галактике из невоплощенных кинопророчеств. Человечество основало этот форпост, намереваясь править вселенной, но миллион лет назад по случайности околело, а механизмы ничего - работают, как ни в чем не бывало, да не очень-то по нам и скучают.
Я один сижу на непрерывной полукилометровой скамье, в самой ее середине, лицом к единственному пустому пути: жду прибытия пассажирского поезда. Над моей головой пролетают многотонные контейнеры, снуют по потолочным рельсам клешни манипуляторов, и кроме жесткой бесконечной скамьи и надписи «Промпарк 4451» перед моим носом ничего для человека тут нет.
До башни «Вертиго» отсюда идет прямая линия; ехать нужно час, к тому же без пересадок. Наверное, Аннели просто села в первый попавшийся поезд и отправилась на нем в никуда.
Это место и выглядит, как ничто нигде. Представляю себе, как ее туба остановилась посреди черной пустоты, как загорелся свет - роботы заметили человека - и как она вышла, держась за свой живот, и села на пустую полукилометровую скамью под бетонным высоким небом.
Нашего ребенка я оставил отцу Андре. Тот пообещал приглядеть несколько часов, пока я делаю дела. Мне было непросто попросить, ему - согласиться. Но он знает, что если я смогу вернуться, то обязательно вернусь.
Сейчас она, наверное, проснулась - уже пора бы, сколько можно спать. Хнычет, просит, чтобы ей поменяли пеленки, а Берте не до нее: свой к титьке прилип. Ладно; святой отец заставит кого-нибудь другого это сделать, да и сам, на худой конец, справится.
И все равно мне неспокойно.
Из туннеля без предупреждения выныривает стеклянная труба: пассажирский. Залетный путник пучится на голую станцию - бетон, бетон, бетон - которой не для кого притворяться райским уголком.
Меня втягивает внутрь, и, как только моя нога перестает давить на платформу, диоды по всему помещению начинают меркнуть, пока весь грузовой терминал не исчезает совсем, будто никогда и не существовал.
Теперь час по прямой.
У меня есть час, чтобы отрепетировать пристрастный допрос Рокаморы и молитву к Беатрис, и чтобы в сотый раз свести нехитрые уравнения, высчитать, сколько мне было лет, когда Эрих Шрейер нашел свою сбежавшую жену, чтобы выяснить у себя - готов ли я поверить в то, что это моя мать, чтобы посметь думать, что она может быть жива.
Час, чтобы провернуть наконец в голове все, что я не успевал домыслить до конца, потому что у меня ворочался на руках или под боком кто-то, плача, гугукая, отвлекая меня, требуя внимания к себе и только к себе.
Час тишины! Наконец!
И я немедленно засыпаю.
Снится, что я нашел свою мать - в Барселоне, что она все это время работала в миссии Красного Креста и жила в доме с белыми стенами, том самом, с лестницей на второй этаж, и чайным цветком, и моделью «Альбатроса». Снится, что я в маске Аполлона, и со мной все мое звено - тоже при полном параде, без лиц, но я знаю: это свои ребята, надежные. На мать мне поступил сигнал, мой долг - просканировать ее, установить незаконнорожденных детей и вколоть ей акселератор. Она открывает дверь, я зажимаю ей рот, наши шерстят оба этажа, а мне позволяют сделать дело: это же моя мама, в конце концов. Мать похожа на Аннели, те же желтые глаза, те же острые скулы, те же губы, только прическа другая совсем - длинные волосы закинуты назад. Динь-дилинь! - установлена родственная связь с Яном Нахтигалем 2Т, беременность не была зарегистрирована, вам положен укольчик, все по закону, а вашего сына мы должны будем забрать в интернат, таковы правила. Погоди, но ведь ты и есть мой сын, я тебя ждала тут все эти годы, ждала, пока ты найдешь меня, пока мы сможем поговорить, нам столько надо обсудить, расскажи, как ты жил один, мой бедный мальчик, господи, как я могла позволить, чтобы нас разлучили, прости меня, прости. Постойте, женщина, если вы думаете, что разжалобите меня своими причитаниями, можете об этом забыть, давайте-ка сюда свою руку - чик! - ну вот, теперь все по закону, теперь все правильно. И тут же остальные маски накидываются на меня - Эл, Виктор, Йозеф, Даниэль - вяжут меня, волокут куда-то, забирают меня у моей мамы, эй, куда вы меня тащите, отпустите, ну как же, Ян, в интернат, обратно в интернат, ты же знаешь Закон, ты теперь должен сидеть в интернате, пока твоя мать не умрет от старости! Но я не хочу, не хочу там быть, не хочу, чтобы она старела, не хочу, чтобы она умирала, не хочу, чтобы мы больше никогда могли увидеться, я ведь так долго ее искал. Но меня уводят все равно, и я бессилен это изменить. Единственное, на что я оказываюсь способен, чтобы не попасть в интернат снова - очнуться.
За минуту до того, как поезд подъезжает к башне «Вертиго».
Вагон оказывается битком набит народом - все в приподнятом духе, кое-кто навеселе - и все они выходят именно здесь, в «Вертиго», вместе со мной.
Мешаемся на станции с толпами экскурсантов и компаниями прожигателей жизни в модных костюмчиках. Тут, судя по всему, какие-то казино и тропические отели; под ногами - желтый песок, прямо из платформы торчат раскидистые пальмы, на которых сидят заводные какаду, а вместо стен - панорама сейшельского рая. Лифтов в «Вертиго» превеликое множество, изнутри они выглядят, как сплетенные из бамбука корзины со стеклянным верхом или как самодельные домики на деревьях, и в каждом на входе вручают бесплатный велком-дринк с невинным фруктовым вкусом. Глотаю: яркость в плюс, четкость в минус. Пара поездок на таком лифте - и в казино, должно быть, чувствуешь себя куда привольнее.
Восьмисотый уровень недоступен. Переоформление.
Справочная отказывается мне помочь, приходится искать обходные пути. С крыши гостиницы «Ривьера» - белые трехэтажные домики с ярко-синими ставнями, стоящие вдоль стометрового отрезка мощеной набережной с газовыми фонарями и жирными чайками-пешеходами - идет стремянка в потолочный люк: небо на ремонте. «Ривьера» - на семьсот девяносто девятом, и она тоже закрыта, но мне удается попасть сюда с бригадой рабочих в промышленных респираторах. С одним из них я уединяюсь в подсобке, чтобы взять напрокат его спецодежду.
Лезу по ступеням, перехожу на новый уровень, запираю за собой люк.
Выбираюсь я с противоположной стороны земного шара - где-то у антиподов, в Австралии: дощатый хостел на океанском берегу, на уходящем за горизонт пляже валяются брошенные облезлые доски для серфинга, большая надувная черепаха тычется в мокрый песок под вялым искусственным прибоем. Недалеко от берега увяз в зеленой воде акулий плавник, стоит на месте, как вкопанный. Небо включено, но сбоит и циклится: одни и те же облака плывут по кругу, будто на цепь привязаны, а солнце ныряет за кромку моря и выскакивает из-за далеких красных гор с обратной стороны каждые две минуты.
Извините, у нас профилактические работы.
Окна хостела - «Плывущий Кенгуру» - зашторены наглухо, на первом этаже - терраса под навесом, зачехленная барная стойка, стены заклеены пивными ярлыками, пыльные стаканы составлены пирамидами. Сдавленно играет гитара из дешевых колонок, нечто отпускное и романтическое. Навстречу мне спускается какой-то тип в темных очках, руки в брюки, походка развинченная, кожа вся в пятнах и шрамах, пересаженная. Выходит, я на месте.
- Дядь, п’терял ч'во?
На мне комбинезон ремонтника, вместо рта и носа у меня респиратор. Я произношу нечто неразборчивое, машу руками на дом. Мол, нужно глянуть.
Его больше интересует люк, из которого я вывалился к ним в Австралию. Если за мной с той стороны Земли полезет кто-то еще, надо стрелять первым. Если там никого, я и вправду могу оказаться заплутавшим работягой.
Я его как бы не замечаю, сразу приступаю к осмотру хибары: у меня тут работа, парень, в войнушку играй сам с собой. Обстукиваю с деловым видом стены, открываю какие-то заслонки. Дергаю за ручку входной двери - она поддается. Как ни в чем не бывало прохожу внутрь, а когда он суется за мной, перебиваю ему дверью руку, тяжелый маленький пистолет бьется о гулкий пол, поднимаю первым, рукоятью - по шее. Он обваливается, я жду: неужели всего один? Жидковато.
Может, Рокаморы тут нет? Не может ведь быть, чтобы его не охраняли! После того, что случилось с Клаузевицем?
- Кто там? - какая-то старуха сверху. - Хесус?
Узнаю Беатрис.
Не узнаю Беатрис.
Тот голос, который я слышал, положили, как бокал, в мешок, и расколотили молотком: раньше был звон, а теперь скрип и скрежет.
- Ты уже вернулся?
Я расписал многоходовку - и перемудрил. Рокамора не догадался даже прятать Беатрис в другом месте. Не хватает пока только его самого - ушел? - но я уж как-нибудь дождусь.
Силясь отдышаться, поднимаюсь по лестнице на второй этаж, ствол наготове, взвешенная в воздухе пыль и гаснет вспыхивает в лучах солнца-карусели, ступени стонут под каблуками, на стенах - снимки белозубых серферов и мореходные карты.
Единственная дверь заперта. Стучусь.
- Хесус?
- Это я, Беатрис, откройте.
И она покупается. Старость набила ей уши ватой.
Как только замок щелкает, рву ручку на себя, и Беатрис падает в мои объятия. Хочет вырваться - я прижимаю ее к себе, обнимаю по-медвежьи.
- Тссс... Подождите... Я не причиню вам вреда...
Она тихо что-то кричит мне в грудь, потом, истратив весь воздух, сдается, и тогда я осторожно ослабляю хватку, сажаю ее в плетеное кресло.
Комната превращена в лабораторию. Компьютерная станция, молекулярный принтер, рефрижератор с какими-то склянками. Она продолжает работать! Я прав: Рокамора выкрал Беатрис, чтобы она довела свое дело до конца - для него!
- Кто вы?
Я притворяю дверь, снимаю намордник, рабочую кепку с козырьком.
- Кто?.. Это... Олаф! Олаф! На помощь!
- Олаф спит, - говорю я ей.
Она здорово сдала за этот год. Спину ей согнуло, лицо спеклось. Кожа истончилась, сдулась: раньше Беатрис Фукуяма была вся из жесткого и сухого вяленого мяса, теперь у нее внутри - переспелая мякоть. Она хочет еще держаться, а стержень сгнил. Выбритые виски, ее бунт против старости, отросли неряшливо. Глаза у нее прежние - живые, разумные, но дряблые веки их закрывают.
- Не смейте меня трогать! - она шамкает, как будто эти губы - усталые, непослушные - ей чужие. - Они сейчас вернутся, и тогда вам...
- Я ничего плохого вам не сделаю! Мне нужна ваша помощь... Только вы сумеете...
- Помочь?.. - она щурится - подслеповато и подозрительно. - Чем это я могу тебе помочь?
- Я старею. Я уколот. Я знаю, вы разрабатываете средство... Лекарство от акселератора... От старости. Я... Я видел в новостях, и... В общем, я еле разыскал вас.
- Лекарство.
Беатрис кивает мне. Ее глаза впиваются в меня рыболовными крючками, она продевает свой взгляд через мою уставшую кожу, через два сантиметра зимы в моих рыжих волосах, колет острием мои зрачки.
- Я тебя помню.
Стою неподвижно. Была у меня надежда, что год за десять лет, огонь и едкий дым сотрут меня из ее памяти, что она спутает меня с кем-нибудь, как спутала мой голос с голосом Рокаморы.
- Ты тот бандит. Тот бандит в маске, который разгромил мою лабораторию. Тот самый.
- Я не бандит. Я больше не Бессмертный...
- Это я вижу, - произносит она. - Даже мне это видно.
- Послушайте... Мне очень жаль, что тогда так получилось. С лабораторией. Что мне пришлось вас задержать. Что эти люди погибли...
- Эдвард, - перебивает она меня. - Вы убили Эдварда.
- Мы не убивали. У него случился инфаркт.
- Ты убил Эдварда, - упрямо повторяет она. - И ты отдал меня этим садистам.
- Они... Они что-то сделали с вами? Я смотрел новости... Мне показалось...
Ее губы разъезжаются в кривой усталой ухмылке.
- В новостях было мое цифровое чучело. Трехмерная модель. Сняли мерку, пока я была чистенькая. Без синяков, без ожогов, без следов от уколов. Чучело теперь может сделать любые признания за меня.
- Мне правда жаль. Я думал о вас... Вспоминал...
Беатрис кивает - ободряя меня, пока до меня не доходит, что кивает она не мне, а себе.
- А ты и вправду стареешь, - улыбается она. - Это не грим.
- Мне сделали укол, говорю вам!
- Хорошо, - она удовлетворенно качает головой. - Значит, есть в мире справедливость.
- Вы можете мне помочь? Пожалуйста! Вы же работали над формулой... Я же вижу, что вы продолжаете... Все это оборудование...
Беатрис вцепляется в подлокотники, кряхтит и с трудом поднимается на ноги, сгоняя меня с моего места.
- Тебя зовут Джейкоб, да? Я тебя тоже вспоминала. Ты многому меня научил.
- Ян. На самом деле меня зовут Ян, - признаюсь я.
- Мне все равно, как тебя зовут на самом деле. Для меня ты Джейкоб.
В зашторенное окно уткнулось кресло-каталка. Беатрис тяжело стоять, колени дрожат, но она стоит - и смотрит на меня не снизу, а как равная.
- Прошу вас. Мне вкачали какую-то дрянь. Сделали переливание крови. Какой-то ваш коллега, с которым вы начинали, с родинкой вот тут. У меня это идет быстрее, во много раз! Старение...
- Не знаю таких. Какой-нибудь жулик.
- Вы должны остановить это.
- Должна?
- Пожалуйста! Может быть, у вас есть какие-то экспериментальные образцы... Может, вам нужны добровольцы, чтобы испытать их на себе...
- Я должна тебе помочь, а?
- Если вы не сможете, значит, никто!
Беатрис держит голову прямо, хотя она тяжелая, как весь земной шар; ее подбородок колеблется, слова нечетки, но голос тверд.
- Значит, никто ничего не сможет. Ты сжег все, что я делала. Сломал, стер и сжег. Нет никакого лекарства. Нет и не будет.
- У меня ребенок. Поэтому мне сделали укол. Я больше не с ними, клянусь. Не с Бессмертными! Я прошел через тот же ад, что и вы! Меня швырнули в тюрьму, я...
- Не думаю, - она медленно и осторожно качает своей тысячетонной головой. - Через тот же ад? Не думаю.
- Девочка. У меня родилась дочь. Ее мать - моя... Она умерла при родах. Я один. Из-за этого переливания все идет гораздо быстрей. У меня нет десяти лет. Мне не на кого ее оставить. Не на кого оставить своего ребенка. Вы должны понять! Вы должны меня понять!
Она молчит. Идет к окну - шаг, еще шаг, еще шаг. Останавливается.
- Я позвонила Морису. Позвонила своему сыну в интернат. Тот самый звонок, единственный. Ты не советовал мне этого делать, помнишь? А я не послушала тебя. Я увидела его. Увидела, как он вырос. Мне не нужно было этого делать. Ты был прав, Джейкоб.
Вот что: она выслушала все от своего Мориса. Надо объяснить ей, может быть, она смягчится...
- Да. Да, я знаю. Знаю, что он вам сказал. Он отрекся от вас, да? Но это ничего не значит! Это испытание, у нас такое испытание. Если он не скажет вам этих слов, его никогда оттуда не выпустят! Все их говорят!
Беатрис Фукуяма пожимает плечами - и как старуха, и как царица.
- Я примерно так себе это и представляла. Но это ничего не меняет. Это чужой человек. Я его не знаю, а он не знает меня. И никогда мы не сможем познакомиться. Ты мне тогда сказал, что он был куском мяса, когда его забрали. Ему было два месяца. Сколько сейчас твоей дочери?
- Два месяца, - говорю я.
- Она тебя не запомнит, - раздельно произносит она. - Ты умрешь, и твоя дочь не будет тебя помнить. У меня ничего для тебя нет.
- Ты врешь! - я подскакиваю к ней, замахиваюсь на нее, еле сдерживаю руку. - Ты врешь!!
- Что ты мне сделаешь? - она не мигает. - Убьешь? Убей меня. Мне все равно. Я умру сама. Нет лекарства. Ты уничтожил все, что было.
- Что ты тогда варишь?! Что это?! - я подскакиваю к пузырькам, к пробиркам. - Не хочешь поделиться со мной?! Тогда я сам возьму!
- Бери, - говорит она.
- Что это?!
- То, чего ты заслуживаешь. Такие, как ты. То, чего заслуживаем мы все! На! Бери! Жри! - она хватает со стола какую-то склянку, протягивает ее мне; вены на ее руках как могильные черви, заранее обустраивающее себе жилище под ее кожей. - Ну?!
- Что это?..
- То, о чем я думала, пока они меня там держали. То, что... варила... тут. Я спешила. Думала, не успею, но успела. Это то, что снова сделает нас людьми. Людьми. Противоядие.
Я даже не могу сразу понять, о чем она, но от первой догадки мне становится душно, а на лбу проступает жирный пот.
- Я назвала его «Джейкоб». В твою честь. Он возвращает все на свои места. Размножается в тебе незаметно. Всего день - и начнешь заражать других. Незаметно. Он умеет прятаться. У него нет симптомов. От него ничего не помогает. Через месяц он убивает в тебе вирус молодости. Вытесняет его. Дает к нему иммунитет. Навсегда. Вылечивает. Снова делает тебя смертным. Добавь его в воду - он исцелит всех, кто будет ее пить. Найди центральный водоканал. Вылей его в водопровод - спасешь миллиарды.
- Ведьма... - меня хватает только на шепот. - Ведьма! Это терроризм... Это... Это массовое убийство! Ты брешешь! Ты не сможешь! Ты опять блефуешь, блефуешь, как тогда, как с шанхайским гриппом!
- Сожри и проверь, - твердо говорит она.
- Я приведу сюда полицию! Бессмертных...
- Они все равно тут скоро будут. Хесусу осталось немного. Они почти додавили его и его людей, - она звучит устало и равнодушно. - Дурак, он тоже просил меня сделать ему средство от старения. Но это ведь гораздо лучше. Это настоящая панацея.
Она пытается откупорить пробирку, но ей не хватает сил - и я успеваю выдернуть чертово семя из ее червивых рук.
- Пей! - смеется она хрипло. - Пей! Ты же хотел вылечиться! Пей!
- Ты сумасшедшая!
- Я?! - она делает шаг ко мне, и меня отбрасывает назад. - Я?! Да я наконец прозрела! Благодаря тебе, Джейкоб! Спасибо!
- Это терроризм. Заразить водопровод... Ты и Рокамора...
Не знаю, куда деть это, чтобы не открыть случайно, чтобы не выпустить смерть на свободу.
- Ты боишься. Боишься старости, боишься смерти. Ты просто щенок, глупый щенок, - Беатрис улыбается дрожащими губами. - Не надо ее бояться. Я отсюда вижу ее. Она в двух шагах. Она не страшная.
Снизу доносится какая-то негромкая возня - наверное, Олаф перезагружает свой мозг после того, как я чуть не сломал ему шею.
- Я говорю ему и тебе говорю: нам нужна смерть! Мы не должны жить вечно! Нас такими не делали! Мы слишком глупы для вечности. Слишком эгоистичны. Слишком самонадеянны. Мы не готовы жить без конца. Нам нужна смерть, Джейкоб. Мы не умеем без смерти.
Беатрис подходит к окну, раздвигает занавески, опирается на подоконник и смотрит на носящееся по небосклону солнце.
- Вы просто устали... Это возраст... Старость... Если бы вы сейчас чувствовали себя, как молодая... Вы бы не говорили так!
- А ради кого я жила бы? У меня не осталось никого, - Беатрис не отрывается от окна.
Закат, восход, зенит, закат, восход, зенит, закат.
- Я перестала цепляться за жизнь, это правда. Смерть сделала меня свободной. Мне нечего терять, Джейкоб. Ты ничего не можешь мне сделать. Ни ты, ни ваша партия, ни Хесус. Я только хотела бы, чтобы мое дитя, - она оборачивается к рабочему столу, - увидело этот мир.
- Беатрис! - кричат снизу. - Беатрис, с вами все в порядке?!
- Сто двадцать миллиардов умрут! Что вы этим измените?!
- И все они должны были умереть. Живое умирает. Мы не боги. И не можем ими стать. Мы уперлись в потолок. Мы не можем ничего изменить, потому что сами не можем измениться. Эволюция остановилась - на нас. Смерть давала нам обновление. Обнуление. А мы ее запретили.
Я запираю дверь на замок.
Грохот шагов по деревянной лестнице. Восход-закат-восход. Занавески висят бессильно. Воздух не движется.
Голова раскалывается.
- Мы ничего не делаем со своей вечностью, - шелестит Беатрис. - Какой великий роман был написан за последние сто лет? Какое великое кино снято? Какое великое открытие сделано? Мне приходит на ум одно старье. Мы ничего не сделали со своей вечностью. Смерть подгоняла нас, Джейкоб. Смерть заставляла торопиться. Заставляла нас пользоваться жизнью. Смерть раньше было видно отовсюду. Все помнили о ней. Это структура: вот начало, вот конец.
- Беатрис?! Он там?! Кто это?! - дверная ручка прыгает, гремит.
- Один несчастный идиот, - отвечает ему Беатрис. - Требует у меня лекарство от старости.
- Отойдите от двери!
Еле успеваю отскочить в сторону - выстрел выворачивает замок с потрохами. Но когда этот Олаф - свиные глазки, переплатанная кожа, массивный лоб - вышибает дверь, я уже за Беатрис, загородился ей, выставив ствол вперед.
- Не вздумай!
- Не мог найти более бесполезного заложника, - смеется Беатрис; дух от нее старческий, кислый. - Убейте меня, и дело с концом. Я сама хочу покоя.
Олаф переползает так, чтобы стрелять в меня было половчей. Смотрит на меня через прицел тяжелого автоматического пистолета.
- Если с ней что-то случится, Рокамора тебе голову оторвет, - говорю я ему. - Так что не дергайся.
Он замирает, лупает своими зенками, якобы призадумался, но я ему не верю.
- Хесус... Хороший человек. Бросить все и умчаться на край света ради своей девчонки... Живой человек. В этом его слабость. Ему немного осталось, - бормочет Беатрис. - Он ничего не успеет сделать. Он проиграл.
- Ради какой девчонки? Где он?!
- Как ее зовут? Аннели? Сказал, что наконец нашел ее...
Олаф стреляет.
Вместо того, чтобы принять пули телом Беатрис, вместо того, чтобы дать ей облегчение, я успеваю вытолкнуть ее, уберечь - и принимаю ожог за нее. Левое плечо. Опять мое левое плечо. Потом - раз! раз! раз! - прыгает ствол, перепонки растягиваются, в ушах звон, Олаф качается, перегибается, укладывается спать лицом вниз.
Беатрис падает на стол, склянки катятся, сыплются на пол, она подбирает их, тяжело, через бок, садится.
- У него есть душа, у Хесуса. Бездушный человек не слышит совести, ни о чем не жалеет, а Хесус - сплошное раскаяние.
Я переворачиваю Олафа лицом вверх, поднимаю выроненный им пистолет. Он жив, хотя пузо у него все красно-черное.
- Рокамора уехал к Аннели?! Куда?! Говори!
Олаф молчит, только дышит, дышит быстро и неглубоко, и с каждым выдохом из него, как из уточки для ванной, бьют слабые струйки.
Рокамора поехал туда. Шрейер говорил, на него работают взломщики... Он мог засечь локацию, в которой я включал коммуникатор Аннели. Вот почему его нет... Его самого и его людей.
Я должен узнать у отца Андре, все ли в порядке. Все ли в порядке с ней...
- Знаешь эту шутку? - бормочет Беатрис. - Переменная Ефуни... Он говорил, что те же сегменты ДНК, которые отвечали за старение, имели и другую функцию. Отвечали за душу. А мы перекодировали их. И никто не знает, что мы там вставили себе вместо души.
Врубаюсь, набираю ему - ай-ди отца Андре сохранился, Аннели мне писала с его коммуникатора. Отвечает он не сразу.
- Ян! Ян! В здании Бессмертные! Нам надо... - картинка мельтешит, Андре дает петуха. - Надо спасаться! Твой ребенок... Они нас нашли! Где ты?!
- Что?! Что случилось?!
Связь рвется; экран гаснет.
- Надо вернуть душу обратно... - шепчет Беатрис и пьет из пробирки. - Мы должны вернуть ее...
Пьет из открытой пробирки!
Запинаясь об Олафа, оскальзываясь в густеющем зеркале, которое из него вытекло, я вырываюсь из этой страшной комнаты, оступаюсь на лестнице, пролетаю несколько ступеней, хлопаю входной дверью, вязну в песке, задыхаюсь, бросаю один последний взгляд на пляжную хибару.
Беатрис сидит у открытого окна, стеклянные глаза провожают меня, на губах улыбка, солнце крутится бешено вокруг неподвижной земли.
Ничего не могу соображать. Сердце колотится так, что ребрам больно, в черепе шевелится что-то шипастое, легкие все залиты страхом и бешенством, и бешенство плещется через рот наружу, стоит кому-то встать на моем пути.
Я расталкиваю, распихиваю застрявших на одном месте зевак, всех этих лощеных бездельников, которые спускают свое бессмертие в казино и коптят его под нарисованным солнцем, врываюсь в лифты, как безумный долблю по кнопкам и слишком медленным сенсорным экранам, бегу так быстро, как могу, как позволяет мне колющийся комок в груди, переполненные легкие, дыра, прожженная Олафом в нескольких сантиметрах от моего выключателя.
Поезд приходит сразу, единственное мое исполненное желание, утешительная сигарета перед расстрелом.
Кепи рабочего осталось у Беатрис, ротозеи в тубе пялятся на меня, глумливо хихикают, сторонятся опасливо и брезгливо. Я таращу высохшие глаза в мелькающую за окном социальную рекламу: «Высокие налоги? Из-за тех, кто решил завести детей!» - на картинке ультра-современный учебный класс, испоганенный маленькими прыщавыми вандалами.
Только попробуйте.
Только попробуйте, гниды блядские.
Только попробуйте к ней притронуться.
Я думаю только о ней, о двухмесячной девочке без имени, которую у меня хотят отнять. Вызываю святого отца раз, еще раз, еще.
- Штурмуют... Саранча... К саранче... - сквозь помехи кричит он мне, и после этого больше не отвечает никогда.
Наконец «Промпарк», туба тормозит посреди черноты. Двери разъезжаются в сторону - надо выйти в вакуум, в место, которого нет. Так сюда когда-то приехала Аннели с моими детьми в чреве. Поэтому она тут вышла.
Шагаю вперед, на платформу, зал только начинает появляться, а я уже бегу во всю, по границе пустоты и мира, к подъемникам. Бросаюсь под колеса слепым гигантам-грузовикам - и они тормозят испуганно, слоны перед мышью; ору до хрипоты на тяжелые и медленные лифты, кляну их ржавые мозги, молочу кулаком по контрольным панелям, подъемники тащатся вверх, я лезу в только наметившуюся щель, мне плевать, кто там, что там, сколько их.
Сломя голову - по темным коридорам, туда, туда, где ворота фермы, где слепые и глухие бизоны, тупое мясо, где мой дом, где мой ребенок, где эти твари, ошкурившие Аполлона, где мой бедный храбрый гомик, отец Андре, где Берта, где Борис, где маленькая Наташа, где мой ребенок, где мой ребенок.
Дверь вспорота лазерным резаком. Зал пуст.
- Где вы?! Где вы?!!!
Через хрип - визг, горло дерет, в руке пистолет, подарок Олафа, первому же - пулю промеж глаз; только тут никого нет. Наш сквот разорен и пуст, матрасы раскиданы, распятия сорваны со стен, на полу шмотье, красные брызги.
- Где выыыы?!!
Час. Я ехал сюда один час. За это время все могло случиться, все могла кончиться. Я опоздал, опоздал! Но я продолжаю искать, заглядываю везде - и ничего нет. Снова в мясной зал, к стаду - не может быть, чтобы никаких следов! Бегу вдоль стен, зажимаю дыру в себе ладонью. В углу вижу лаз для уборщиков, крышка оторвана. Становлюсь на четвереньки, ползу по трубе, утыкаюсь в оброненную детскую соску, в кровь мне впрыскивают ускоритель, я не слышу боли, только пот в глазах мешает, льет и льет, сука!
Первый зал - покорных бизонов Вилли проворачивают на огромной, как мироздание, конвейерной линии, превращая во всевозможные виды мясной продукции, от сосисок до бургеров, придавая их земной жизни смысл.
Нет... Он сказал что-то про саранчу. Про саранчу.
Я лезу дальше, быстрей, быстрей! Мимо цехов, где растят хлеб, мимо цехов, где штампуют псевдоовощи, дальше, дальше, натыкаясь тут и там на следы рифленых подошв штурмовых бутс, на обрывок пеленки, на белые молочные капли.
Но меня ведет другое - нарастающий шум, странный, жуткий, не живой и не механический, не то стрекотание, не то шепот, не то хруст.
Коммуникатор светит все слабей, я тоже почти на нуле - и меня хватает еле-еле. Он кончается, а я остаюсь.
Лаз выводит меня в помещение, километровые стены которого сплошь заклеены фотообоями, изображающими сочную зеленую траву. Только трава, трава - ничего другого. А вдоль этих зеленых стен зиждутся стеклянные цистерны, широкие сверху и сужающиеся книзу, в десять человеческих ростов высотой. Таких воронок-цистерн тут сотни, и каждая сверху донизу забита пыльно-зеленой кишащей массой.
Кузнечики. Саранча. Лучший источник протеина.
К раструбам воронок подходит закрытый конвейер, и из него на насекомых манной небесной падает какая-то зеленая масса, якобы трава. Зелень эта исторгается нескончаемо, постоянно, но следов ее внутри цистерн не видно - саранча перетирает ее мгновенно, изничтожает до последней молекулы. Те, кому повезло, кто оказался с краю, пялятся своими бусинами через стекло на фотообои с травой, у них благоприятный психологический климат, пролетает у меня дикая и случайная мысль, а остальные глядят в соседей. Снизу к воронкам подведен другой конвейер - на него втягиваются насекомые, достигшие нужного размера, гибнут там от электричества и убывают изжариваться в кипящем масле.
Стрекот их существования и шелест их умирания наполняют все сотни тысяч кубометров этого мирка до отказа. Не слышно ничего, кроме надсадно орущего в уши «ЧХРЩЧХРЩЧХРЩЧХРЩЧХРЩЧХРЩЧХРЩ», не видно ничего, кроме постепенно осыпающейся, как песок в колбах часов, слитной зеленой массы.
И вот я их нахожу.
По стене поднимается шаткая лесенка - если вдруг надо будет человеку залезть наверх, к конвейеру, к раструбам воронок, и что-то там осмотреть, проконтролировать машины. Ступени полметра шириной, перильца-нитки. Почти под потолком лестница становится узкой галереей-мостиком, проброшенным над прозрачными цистернами.
В конце мостика - запертая дверь, и к ней загнана кучка оборванцев - фигурка в сутане, женщины со свертками, укрывшиеся за спинами пары мужчин. А к ним подступают десятеро в черном, с белыми пятнами вместо лиц.
Я вцепляюсь в нитку, карабкаюсь по дрожащим ступенькам, мне не страшно упасть, не страшно разбиться, я ничего не боюсь.
- Ррруки! Ррруки от них убррали!
Трое белолицых останавливаются - идут ко мне. Семеро вдавливают священника и прочих плотней, плотней - в закрытую дверь и в пропасть по краям.
Где мой ребенок?! Где она?!
Святой отец что-то кричит мне, но саранча сжирает его крик, как только что сожрала мой.
Выбираюсь на галерею, наставляю на этих троих автоматический пистолет, из которого Олаф прожег во мне отверстие. У Бессмертных только шокеры, схватка будет нечестной и короткой.
Один из них - двух с лишним метров, человек-башня, почти такой же могучий, как наш Даниэль. Начну с него. Ловлю широкий беломраморный лоб в прицел.
Шагах в пяти Бессмертные застывают. Понимают, что...
- Семьсот Семнадцатый?
- Ян?!
Они, наверное, орут это изо всей мочи - но до меня доходит только еле слышный сип. Нельзя узнать голоса, саранча перебивает его, перетирает интонации, тембр, личность, оставляет одну только пустую шелуху слов.
Самый ближний ко мне снимает маску. Это Эл.
Тот, здоровый, выходит - и вправду Даниэль?!
Это мое звено! Моя собственная, родная десятка!
Что они здесь делают?! Какова была вероятность, что именно их пришлют за моим ребенком?!
- Ян! Опусти ствол, брат! - шелестит Эл.
Кто десятый? Кем они залатали дыру? Кем меня заменили?!
Эл делает шаг ко мне - а я пячусь назад. Как мне в него выстрелить? Как убить Даниэля? Даже если я попаду ему в ногу, в руку - он свалится с мостка и разобьется.
Остальные семеро, поняв, что я мешкаю, вклиниваются в кучку осажденных.
- Стоять! - я палю в воздух, саранча хрустит звуком выстрела.
Эл и его двое останавливаются, но позади них черные в масках вовсю орудуют шокерами. Кто-то почти срывается вниз, его еле удерживают на галерее. И когда я уже почти решился стрелять в своих, мне машут.
У одной из масок на руках младенец.
Завернутый в тряпку, которая раньше была платьем Аннели.
Эта тварь выпрастывает ее из пеленок, хватает, голую, за ногу, за ножку, вывешивает ее над пропастью. Моего ребенка! Моего! Моего ребенка!
Я разжимаю пальцы: глядите! Пистолет летит вниз. Задираю руки. Сдаюсь! Все, что угодно! Не смей этого делать! Не вздумай! Кто бы ты ни был! Йозеф? Виктор? Алекс?
Он показывает жестом: отходи назад, медленно, без резких движений.
И мы спускаемся - один за другим: я, Эл, Даниэль, остальные Бессмертные, сдавшиеся горемыки-сквотеры, та паскуда, у которой в руках моя дочь. Он, похоже, командует ими всеми. Не Эл, он.
Спускаемся вниз - он дирижирует моим ребенком; указывает моей десятке, что делать: мужчинам - шокером в шею, женщинам - выкрутить руки, детей - в сторону пинками. Я смотрю на голого ребенка, который был завернут в тряпки из платья Аннели. Ничего и никого нет, кроме него.
Эл приближается ко мне, протягивает мне пластиковые наручники-ленту: на, мол, сам на себя надень, брат. Принимаю, не спуская глаз с того, в маске, у которого в руках моя дочь. Он все еще держит ее за одну ногу, головой вниз, она вся малиновая, кровь прилила, надрывается, и ее плач я остро слышу сквозь глушащее все прочее стрекотание.
Он делает вид, что собирается ударить ее головкой о цистерну, размозжить ее - и останавливается в последний момент. Я рвусь к нему - но Даниэль встает у меня на пути, отбрасывает меня назад, заламывает мне запястье.
Тот, что держал ее, позабавившись, передает моего ребенка другому; все, теперь можно.
Во мне оказывается столько силы и злобы, что даже Даниэль не справляется со мной. Вкладываю все в один апперкот, дробятся мои пальцы, дробятся его зубы - он подпрыгивает и оседает, а я уже у этой мрази, у этого ублюдка, который играл ей и мной.
Сбиваю его с ног, лбом по Аполлонову лбу, набрасываюсь сверху, мешу его разодранными кулаками, мажу его маску своей кровью - он пытается выбраться из-под меня, лягает меня в пах, вцепляется пальцами в шею, но я не замечаю ничего: ни боли, ни удушья. Из меня выпадает второй пистолет - маленький, тяжелый - я хватаю его, первый попавшийся предмет, и молочу им, рукояткой, как камнем, молочу без остановки по глазам, по темени, по носу, по щели рта, вбиваю, вколачиваю в него маску навсегда. На меня наваливаются, оттаскивают, а я все луплю, луплю, луплю. Маска спадает, проломленная, расслоившаяся.
Под ней - Пятьсот Третий. Не лицо - месиво, но я его узнаю везде. Всегда.
Ему конец. Лоб проломлен, торчит белая кость из красной каши. Но я никак не могу остановиться. Не могу. Не могу.
Пятьсот Третий.
Ничего нельзя исправить! Не будет мира! Не будет прощения!
Нет и не будет! Сдохни, мразь! Сдохни!
Меня отдирают от его трупа, прижигают шокером, унимают вчетвером.
Я должен отключиться, но не могу; меня просто парализует - и я гляжу молча, как моего ребенка кладут к прочим, как Эл вызывает спецкоманду, чтобы всех отправить в интернат, как направляет коммуникатор на меня, показывая кому-то, рапортуя об успехе.
И в эту же самую секунду один из тех, кто сидит на моих ногах, ничком заваливается на пол. Женщины кидаются к своим детям, одна из них падает, Эл выставляет вперед мой маленький пистолет, давит курок.
Из конца зала бегут трое. В плащах; вытянутые руки скачут - отдача. Хватается за бок один Аполлон, кувырком летит другой, саранча подъедает их отлетевшие души, потом Эл попадает - и человек в плаще спотыкается, не достав до нас всего пару десятков метров. У остальных кончаются патроны, Бессмертные кидаются вперед, я дергаюсь по полу, нужно подняться, двое в плащах на шестерых в масках, закручивается вихрь.
- Аннели! Где ты?! Аннели!
Мельком вижу лицо - знакомое и незнакомое, с плывущими, неуловимыми чертами - то самое, в которое я разрядил заевший пистолет, то, на которое глядели десять миллионов на площади двухсот башен в Барселоне.
- Аннели!
Рокамора здесь! Нашел нас. Нашел Аннели.
Он ничего не знает, он думает, она жива, он пришел за ней. И сейчас его убьют. Вот кто-то уже оседлал его, тыкнул его шокером, душит лентой пластиковых наручников, его напарник уже не дрыгается. Не спасение - отсрочка.
Набираю злости и отчаяния сколько есть - хватает только на то, чтобы повернуться на бок. И наблюдаю, как отец Андре подбирает брошенный мной с мостков автоматический пистолет. Целится мимо дерущихся, мазила, не может совладать с отдачей, стреляет еще и еще - куда? Ни одного из Бессмертных он не задевает, все зря...
Одна из прозрачных цистерн вдруг лопается, как пузырь, рассыпается блестящей крошкой, взрывается, как упавшая дождевая капля, и все видимое пространство покрывает стрекочущий живой ковер. Здоровенные твари, сантиметров по пять, заполняют землю и воздух, прыгают в первый неожиданный раз в своей заранее расписанной жизни, расправляют крылья, шелестят, стрекочут, лезут в глаза, в рот, в уши, скребут хитином нашу кожу: казнь египетская, гнев господень.
Рядом рушится еще одна цистерна, и больше не видно ничего.
Я ползу - могу ползти! - наощупь туда, где был мой ребенок. Что происходит с Рокаморой, с отцом Андре, с остальными - не знаю.
И нахожу ее, как будто в меня встроен навигатор, как будто мы оба намагничены. Обнимаю, укрываю от жрущей нас саранчи и вслепую ищу укрытия, шатаясь на саднящих ватных ногах.
Какая-то дверь; толкаю, прячусь - тесная подсобка.
Раскрываю сверток: моя. Живая.
Целую ее лобик, щеки, она визжит, плачет, посинев от натуги. Забиваюсь в угол, баюкаю ее, мажу ее личико своей и чужой кровью. По полу скачут ошалевшие от свободы кузнечики - в стену, в потолок, мне в лицо. Ничего, тут их немного. Переловлю позже. Главное - чтобы...
Дверь распахивается, кто-то возникает на пороге, проем забивает саранча.
- Закрой! Закрой дверь! - ору я ему.
Он прыгает внутрь, рвет на себя створку, давя налетевших в дверные щели насекомых, орудует замком, падает обессиленно на пол, шумно дышит, растирая свою передавленную шею.
Это Рокамора.

- Там была девушка? Коротко стриженная, светло-карие глаза? - Рокамора кашляет через слово, говорить ему больно. - Аннели?
Мне надо задушить его сейчас, но я весь израсходован на Пятьсот Третьего. Я слишком занят тем, что понимаю: Пятьсот Третьего я только что бесповоротно убил. Все кончено между мной и ним. Конец истории, которая длилась четверть века - и такой странный конец.
И ребенок плачет.
Я укачиваю, баюкаю ее. Рокаморе приходится тормошить меня, чтобы задать свои дурацкие вопросы.
Он все еще в этом своем плаще на два размера больше; исхудал, истаскался - весь лоск с него стерся, облетел, все очарование. Но он все так же юн, как и в нашу первую с ним встречу. Почти мальчишка.
- Она же была с вами в этом сквоте? Да? Я знаю. Вы можете мне доверять, я свой. Я ее муж...
- Муж? - переспрашиваю я.
- Муж, - твердо говорит он.
Не могу ее никуда положить, даже на секунду. Кругом голый холодный пол и обезумевшая саранча.
- У нее не было мужа. Она была одна.
- Мы расставались... Ненадолго. По недоразумению. Скажи просто, где она!
- Расставались, - киваю ему я, укачивая вопящего ребенка; кто бы сейчас укачал меня. - Ненадолго. Может, ты бросил ее?
Я должен кричать это, должен швырять обвинения ему в лицо - но весь кипяток я выплеснул в Пятьсот Третьего. Выходит тихо, безразлично.
- Какая тебе разница? - он поднимается. - Она ушла сама. Где она? Ты знаешь или нет?!
- Может, ты ее бросил, когда ее насиловали Бессмертные? - спрашиваю я.
- Она такое говорила?.. Я не верю! Кто ты такой?!
- Может, ты сбежал, чтобы спасти свою драную шкуру? Может, она тебя так за это никогда и не простила?
- Заткнись! - он делает ко мне шаг; но ребенок в моих руках мешает ему сделать еще один, и мешает мне придушить эту гниду. - Где она?! Она была там?!
- А где ты был - целый год?
- Не прошло года! Десять месяцев, меньше! Я искал ее! Все это время! У нее был отключен комм! Как еще ее найти?!
- Комм был отключен, потому что она не хотела, чтобы ты ее находил. Ты ей был не нужен.
- Ты кто такой, а?! - он включает фонарь в своем коммуникаторе, светит мне в лицо. - Кто ты такой?!
- Да и она никогда не была тебе нужна, а? Ты ей просто баловался, да ведь? Она просто напоминала тебе какую-то твою старую подружку, которая сто лет уже, как околела? Тебе ведь ее было нужно, а не Аннели, а?
Не вижу его лица: в кромешной темноте этой комнатенки комм в его руке горит ярко, как звезда. Кузнечики из тоски прыгают на эту холодную звезду.
- Я тебя знаю?.. - отмахиваясь от напасти, говорит Рокамора. - Где я тебя видел? С какой стати она тебе это рассказала?!
Вопли снаружи не стихают. Кто-то колотит в запертую дверь; мы не шелохнемся, чтобы впустить их. Там два десятка сквотеров, звено Бессмертных и двое полудохлых боевиков; проситься к нам в домик может кто угодно. Рулетка.
- Ей нужна помощь! Ей сделали укол! Она была беременна! - он делает еще одну попытку.
- А ты что, можешь ей помочь? - спрашиваю я. - У тебя, может, лекарство есть?
- Что с ней случилось?! Где она?!
- Что ты так о ней печешься? Может, это был твой ребенок? Твоим ребенком она была беременна?
- Да какое тебе дело?!
В дверь все скребутся - отчаянно, истерически. Женский голос; кажется, это Берта.
- ...моля... жалу...
- Кто там? - говорю я двери.
- ...я! ..ерт!...
У нашего разговора не должно быть свидетелей. Но Берта... Берта.
- Ты что делаешь?! Тут же сейчас...
Поздно. Щелкаю замком. Внутрь вваливается - Берта, скорлупой, панцирем, иглами наружу свернувшаяся вокруг своего Хенрика. Мальчик плачет: жив.
- Ян! Ты... Слава богу!
Надо запереться - но в щель клином входит штурмовая бутса, врезается, не пускает, а за ней лезет черное плечо.
- Дверь. Дверь, - кричу я оцепеневшему Рокаморе. - Помоги, кретин.
А он слишком туго соображает - и черная фигура успевает вломиться к нам, в нашу комнатушку три на три. К лицу приклеился Аполлон, но я узнаю его по пистолету - моему, маленькому. Это Эл.
Я вжимаю створку спиной - хруст - она становится на место. Берта со своим мальчиком сползает по стене на пол, Хенрик вопит, моя надрывается. Эл с ходу тычет стволом в Рокамору. Хорошая реакция.
- Руки! - и орет в свой комм. - Тут Рокамора! Я взял Рокамору!
Тот делает шаг назад, еще один - достигает стены, упирается спиной, и распахивает свой плащ; под ним - широкий черный пояс с карманами, по которым рассованы обмотанные проводами брикеты. Рокамора медленно поднимает руки вверх - в пальцах зажато нечто, похожее на ручной эспандер.
- Давай! - говорит он. - Отпущу - мокрое пятно от тебя останется. От всех нас.
Если это и вправду взрывчатка, ее хватит, чтобы снести весь цех.
По Элу не скажешь, но, уверен, он сейчас вспотел. Я вспотел. Рокамора вспотел.
- Не смей, - говорю я ему.
- Ай, не надо! - плачет Берта. - У меня тут маленький! Не надо!
- Эй, друг! - Эл не сводит с него дула. - Не нервничай. Я тебе ничего не сделаю. Такие шишки, как ты, живыми нужны.
- Живым вы меня не возьмете, - мотает головой Рокамора.
- Не надо! Не нужно! Пожалуйста! - подначивает Берта.
- Что там? Что там у тебя? - бухтит чей-то голос у Эла в коммуникаторе.
- Скажи там, нашел Рокамору! И Нахтигаль тоже тут! Да, Ян! C ребенком! Плюс какая-то баба с сосунком.
- Нахтигаль? - переспрашивает Рокамора. - Ян Нахтигаль?
- Привет, Эл, - говорю я Элу.
- Доложили командованию! Держись! - шипит коммуникатор.
- Положи пистолет на пол, - перекрикивает комм Рокамора. - Положи его на пол, скотина, или я отпускаю. Раз...
- Кишка тонка!
Мой ребенок заходится в визге.
- Баю-баюшки-баю...
- Они все равно убьют меня, как только оцифруют! Лучше так! Два!
- Ладно. Ладно. Только тебе это не поможет... - Эл приседает и кладет пистолет на пол.
- И скажи своим, скажи! Давай! - Рокамора играет детонатором, будто это и вправду эспандер.
- Потише там! - кричит Эл в комм. - Этот псих весь обмотан взрывчаткой! Погодите со штурмом!
- Пятеро заложников, двое детей, у Рокаморы бомба, принято, - гундосит комм.
- Подержи мою тоже, - я сажусь рядом с подвывающей Бертой. - Никак не могу успокоить ее. Ну-ну, не волнуйся. Все будет хорошо.
Эл играет в гляделки с Рокаморой. Я обнимаю его сзади, стальной зажим, отвожу назад, укладываю на пол. Он сучит ногами, Берта рыдает, дети визжат, саранча мечется туда-сюда, Рокамора удивленно лупает своими глазами, я нашариваю пистолет - клейкий, перемазанный - и одним ударом успокаиваю Эла. Потом нахожу у него в кармане наручники-ленту, стягиваю его запястья, пристраиваю его, мешок, в углу.
- Нахтигаль, - повторяет Рокамора, тупо наблюдая за моими манипуляциями. - Тот самый Нахтигаль. Герой освобождения Барселоны. Тысячник. Ублюдок. Людоед.
- Слушай, ты! - я выставляю ствол, до его лба - полметра, но риск все равно слишком велик. - Да. Я там был. Был в Барсе. Я все видел. Слышал. Я открыл ворота, правда. Но убил их ты. Все пятьдесят миллионов человек. Подставил их. Использовал. Привел на бойню. Я там был, когда ты их подзуживал...
- Ложь! Я хотел освободить их! Они заслуживали справедливости! Я только...
- Был там, когда ты врал про Аннели.
- Что?!
- Когда ты клялся ей в любви, говорил, что мечтаешь все вернуть...
- Я не врал! Какое тебе дело до этого?! Кто ты?! Где она?!
Я молчу.
- Где она?!
- Это наша-то Аннели? - помогает притихшая было Берта. - Умерла она. Родами умерла, третий месяц пошел как.
Рокамора вздыхает-смеется-всхлипывает.
- Что?
- Ты успокойся только, не взрывай нас, ладно? Умерла. У него вон спроси, ребеночек-то ее ведь. Любил ты ее, Аннели? Не погубишь же ребеночка ее?
- Умерла?
- Умерла, - признаю я.
Эл возится в углу, бурчит что-то.
- Почему у тебя ее ребенок? - Рокамора перекатывает на меня свои красные шары. - Почему ты все про нее... Это ты, да? Это ты с ней там. Это от тебя она.
Его пальцы оскальзываются на пружинной рукояти детонатора, и он еле перехватывает ее. Я все держу его лоб на мушке.
- От Бессмертного. От безродного. От выродка. От убийцы.
- А должна была? От труса? От предателя? От слабака? - спрашиваю его я. - Гляди-ка! Может, узнаешь меня?! - я срываю маску с пьяно моргающего Эла, прикладываю ее к своему лицу. - Помнишь, как ты мне рассказывал, что там, под маской, я нормальный парень и не хочу тебя убивать. Твою жену драли Бессмертные, а ты поджал хвост и сбежал, как только я тебя отпустил! Помнишь?! Вот он, я! - я снимаю маску. - Вот он я, нормальный парень! Я должен был тебя год назад пришить, прямо там, тебя и твою жену!
- Ты? Это ты?
- Что же ты оставил ее там?! Почему не забрал, раз так любил?! Почему дал мне ее убить?! Дважды дал! Оставил ее одну в этой вашей квартире! Чего ждал?
- Я отправлял людей!
- Если бы ты пришел сам - я бы не смог ее увести! Но ты слишком печешься о своей шкуре. Ты себя любишь, а не ее! У тебя права на нее нет!
- Заткни свою пасть, понял?! - он шагает ко мне, забыв о бомбе, о пистолете. - Я ее любил! Я ее люблю!
- Не ее! Какую-то другую бабу! Ты же признался ей! Признался! Она была просто похожа на кого-то! Ты ее как эрзац пользовал!
- Да что ты понимаешь, щщщенок?! - рычит он.
Берта дает ей грудь, и она наконец умолкает. Саранча стрекочет. Эл стонет и мычит. У него опять пробуждается коммуникатор.
- Мы доложили командованию. Просят соединить. Сенатор Шрейер на линии. Прими вызов!
- Отмени! - я перевожу ствол на Эла; но тот ничего еще не соображает.
- Хесус! Ты там? - говорит Шрейер из руки Эла.
- Шрейер?! Почему Шрейер?! - Рокамора облизывает губы, утирает пот со лба рукой, в которой зажат детонатор. - При чем тут Шрейер?!
- Ты там, Хесус? - продолжает сенатор. - Какая удача! Искал Яна, а нашел тебя. Вот подарок! После стольких лет! Что ты там делаешь? Встретились обсудить свои чувства к этой бедняжке? Как ее - Аннели?
- Откуда он знает? Откуда он все знает?!
- Я слышал, ты собираешься подорваться? - в голосе Шрейера - вежливый интерес: еще одна светская беседа, и только.
- Выруби! Выруби его! - требует Рокамора.
- Не спеши, - говорит сенатор. - У меня для тебя столько нового! И для тебя, Ян. Прости, кстати, что не перезвонил раньше, был плотный график.
За дверью слышна какая-то возня; потом - пробный удар чем-то тяжелым.
- Что они там делают? Отзови их! Отзови своих псов, Шрейер! - кричит Элу Рокамора. - Тебе из меня куклы не сделать! Сейчас тут все на воздух взлетит! Слышал?! Я за себя не отвечаю!
- Не нужно, не нужно, - уговаривает себя Берта.
- И никогда не отвечал, а? - отвечает Шрейер и добавляет куда-то в сторону. - Риккардо, поставьте ребят на паузу. Попробую провести с террористом переговоры.
- С террористом?!
- Ну да. Включи новости. Хесус Рокамора взял пятерых заложников и угрожает подорвать себя вместе с ними. Среди заложников женщина и двое грудных детей. Прекрасно, разве нет? Главарь Партии Жизни убивает двух младенцев. Достойный финал.
Удары прекращаются, но теперь из-за двери раздается глухой скрежет, будто по полу тащат что-то тяжелое.
- Это ложь! Никто не поверит!
- Думаешь, тебе кто-то даст выступить с опровержением? Это конец, Хесус, и ты сам загнал себя в тупик. Вопрос только в том, хочешь ли ты уйти, как террорист, или сдаться и раскаяться.
- Раскаяться?! В чем?! В том, что тридцать лет спасал человеческие жизни?! В том, что боролся с людоедами?! Пытался уберечь детей от ваших костедробилок?!
- Если тебе так трудно это дается, каяться за тебя может твоя трехмерная модель. Для этого, конечно, нам желательно заполучить тебя целиком, чтобы было что оцифровывать.
- Вот что, - Рокамора облизывает губы. - Пустить по новостям мою заводную куклу. Лизать вам задницу и призывать наших сдаваться. Как с Фукуямой. Как с женой Клаузевитца.
- Нет уже никаких ваших, Хесус. Тебе разве не доложили? Ах, у тебя, наверное, не работает коммуникатор. А тем временем ровно сейчас идет штурм вашего логова в башне «Вертиго», это тоже в новостях. Остался только ты.
Штурм? Разве могут Беатрис и Олаф оказать какое-то сопротивление?
Как они вычислили это место, так быстро?
Запеленговали меня, когда я вызывал отца Андре?
- А моей шкуры вам не видать. Со стен ее соскребать будете, - пот льется градом со лба Рокаморы. - Я чучела из себя не дам набить, ясно?!
- Риккардо, вы не могли попросить всех очистить помещение? - говорит Шрейер куда-то в сторону. - И переключите меня на защищенную линию, будьте добры. Я хотел бы побеседовать с террористом-самоубийцей наедине. Так сказать, психология в действии. Последняя попытка спасти детские жизни.
- Я не хочу убивать этих людей! - кричит Рокамора. - Не верьте ему! Я не самоубийца! Мы все еще можем спастись отсюда! Если кто-то меня слышит... Я всегда боролся и борюсь сейчас за право людей оставаться людьми, за наше право на продолжение рода, за то, чтобы у нас не отнимали детей, чтобы не принуждали делать этот бесчеловечный выбор...
Боком я отхожу к двери. Рокамора не обращает на меня никакого внимания; может, нам удастся выбраться отсюда, пока...
Проворачиваю замок. Толкаю медленно, тихо...
Дверь не поддается. Придавлена чем-то снаружи.
- Все. Можешь больше не горлопанить, тебя отключили, - перебивает его Шрейер. - Теперь можем поболтать наедине. Ты и я. Ну и твои заложники, конечно, но они не в счет. Ты же их убьешь.
- Мразь! Лжец!
Рокамора с ненавистью глядит на Эла, который кулем сидит в углу, руки связаны, лоб кровит. И оттуда, из Эла, исходит чужой голос, будто он - впавший в прострацию медиум, по которому звонит в наш мир какой-то демон.
- Тридцать лет, Хесус. Тридцать лет ты откладывал наш разговор, а? Ты был очень занят, я понимаю. Ты ведь сражался с системой! Тридцать лет я тебя искал. Ты мастак прятаться. Тридцать лет спасал от меня, людоеда, розовых милых детишек. Чужих детишек. Со своими у тебя как-то не сложилось, а?
- Я...
- И тридцать лет требовал отменить Закон о Выборе. Может, потому что сам не смог сделать правильный выбор, только и всего?
- Я не был обязан... Никто не обязан...
- Потому что ты просто струсил? Повел себя с ней, как обычная сволочь?
- Выключи! Выключи его! - кричит Рокамора Элу.
- Не веди себя, как истеричка, - говорит Шрейер. - Ты тридцать лет уходил от этого разговора. Тебе проще сдохнуть, чем поговорить со мной? Знаешь, от чего мне досадно? От того, что она изменила мне с таким трусом. Плевать, что он был жигало и нищеброд. Мне обидно, что она хотела уйти от меня к такому ничтожеству, как ты.
Комната начинает плавиться и проседать, маленький злой пистолет плывет в моих влажных пальцах - и я отвожу его от Рокаморы, чтобы не прервать его, не дослушав.
- Она ведь ждала тебя, Хесус. Ждала все эти четыре года, пока я ее искал. Ты появился хоть раз? Позвонил ей?
Четыре года, повторяю я про себя. Ждала четыре года, пока не...
- Я не хочу об этом говорить! - Рокамора оглядывается на меня, на Эла, на Берту.
- Может быть, ты боялся засады? Но ведь в то время ты вовсе не был террористом номер один! Ты был просто стриптизер, соблазнитель богатых скучающих дам, вонючий нищий кобель. Кобель, который трахнул чужую суку.
- Ты сам виноват, Шрейер! Сам виноват! Это ты довел ее!
- Все кругом виноваты, но только не ты.
- Я ее любил!
- И поэтому оставил ее одну. Она набралась храбрости, сбежала к тебе от мужа - а ты?
- Что ты с ней сделал?!
- Какой внезапный интерес! Тридцать лет тебе удавалось сдерживать любопытство, а тут вот - подавай тебе все на серебряном блюдечке!
- Я искал! Я пытался их найти!
- И не нашел. Ты, с твоими возможностями, с твоим дружком-взломщиком - не нашел. Слышишь, Ян? Вот незадача!
Я слышу. Я все слышу и ничего не могу понять. Мое лицо все мокрое, мне кажется, это кровь струится из моих ушей. Берта пялится на меня молча, к одной сиське пристал Хенрик, к другой - моя дочь. Кузнечик прыгает на Рокамору, попадает ему в щеку. Он дергается, рука с эспандером сжимается, я зажмуриваюсь.
- Что ты с ней сделал?!
- Ничего. Я просто вернул ее домой, Хесус. Все остальное с ней сделал ты.
- А ребенок?!
- Ребенок?
- Она ведь родила?!
- Она родила, Хесус. Хотя я очень ее отговаривал. Я был готов ее простить, знаешь? Ведь глупо ревновать жену, с которой прожил пятьдесят лет, к какому-то жигало, к шлюхе. Избавься от эмбриона, просил я. Убери это из себя, очистись, и мы все забудем. И мы будем жить, как прежде. Ты же не думаешь, что она сбежала ради тебя? Нет, она непременно хотела сохранить чертов эмбрион.
Сохранить чертов эмбрион. Непременно сохранить чертов эмбрион.
Избавься от эмбриона, просил я.
Одними губами я повторяю за Шрейером эти слова.
- Ты продержал ее на цепи пятьдесят лет и хотел продержать еще столько же! Ты ничего не мог ей дать, Шрейер! Она была несчастна с тобой! Она бы не стала...
- Зато ты, конечно, дал ей все.
- Анна мечтала о ребенке!
- Так что ты обрюхатил ее и сбежал. Благодетель. Спасибо тебе.
- Сколько лет она пыталась забеременеть - от тебя?! Она мне рассказывала, она все мне говорила... Ничего ведь не получалось!
- И вот - чудо! Чудо чудное! Святой дух осенил ее! Непорочное зачатие свершилось! То, о чем она молила господа бога, когда думала, что я не слышу! Ребеночек!
- Она думала, что проблема в ней! Думала, что это она бесплодна, поэтому молилась, и... Ты знаешь все это! Ты же знаешь!
- Проблема? Я не вижу никакой проблемы! Не видел тогда и не вижу сейчас! Проблема - это когда потакают своим звериным инстинктам! Проблема - когда не знают, что делать со своей течкой и лезут на первых встречных! Когда воображают себе черт знает что, и выдают банальные блядки за божественное вмешательство! Вот что я называю проблемой!
- Это ты ее довел до этого! Ты! До этого помешательства! Она не была такой!
- Какой? Ты имеешь в виду, до вашей случки она не разговаривала со своим Иисусом так, как будто он ей отвечает? Да, это с ней случилось позже. За эти четыре года, пока я ее искал. Напомню - я искал ее, я, а не ты, Хесус. Четыре года. И ты смеешь мне говорить, что я ее не любил? Разве станешь так стараться ради женщины, которую не любишь?
- Что ты с ней сделал?!
- То, что должен был сделать любящий мужчина и добропорядочный муж. Я не бросил ее, как ты. Не выгнал из дома. Я заботился о ней до конца, Хесус.
Я слушаю их, замерев, онемев, не вмешиваясь.
Я смотрю на Хесуса Рокамору.
Это взгляд, который показался мне знакомым когда-то давно, год назад. Глаза.
За всем его гримом, накладными бровями, скулами, носом...
Я гляжусь в зеркало.
- До конца?! Ты ее убил! - хрипит Рокамора.
- Мы с ней все сделали по закону, Хесус. Она сама выбрала это. Выбрала оставить твоего ребенка, выбрала заплатить за него своей красотой, и своей молодостью, и своей жизнью. Я предлагал ей передумать. Но она выбрала старость - и смерть.
Она выбрала старость и смерть.
Выбрала оставить ребенка.
Кровь во мне стала вязкой, густой - как та, что вытекла из бедного Олафа. Сердцу тяжело ее качать, оно за последний год одряхлело. Еле поднимает мою кровь-сгущенку из далеких тяжелых ног, еле пропихивает ее в хрупкие сосуды моего окаменелого мозга, надрывается, не справляется. Я не справляюсь.
- Что ты сделал с моим ребенком?!
- О! Я подошел к этому делу со всей ответственностью, Хесус. Я вырастил его. Воспитал. Это же сын моей любимой жены.
- Сын?..
Все мои годы в интернате. Все годы, которые я мечтал вырваться, сбежать, и бился головой об экраны. Все годы, которые я ждал звонка от своей матери.
Это все было неслучайно. Моя первая встреча с Шрейером. Задание, которое он мне дал. Его терпение. Его готовность не обращать внимание на мои промахи. Ужины и коктейли. Вырастил и воспитал.
- У тебя есть еще дети, Хесус?
- Нет! Какое твое дело?!
- Ты так любишь детей, Хесус. Ты всю жизнь положил, чтобы защитить бедолаг, которые решили непременно размножиться. А со своими у тебя как?
- Замолчи!
- Общаешься с ними? Вряд ли. Ты же бежишь от своих женщин, как только они беременеют! Это не располагает к дружбе с детьми. Ты их знаешь вообще?
- Не надо, - говорю я тихо.
- Давай я тебя познакомлю с твоим сыном! Тем более, что вы и так уже почти знакомы. Ян, это Хесус. Хесус, это Ян.
Вот у меня пистолет. Но в кого мне стрелять? В Шрейера? В Рокамору? В себя?
- Нормально, - говорит Берта.
- Это он?! Этот?!
- И вот какой казус, - говорит Эрих Шрейер. - Поскольку ни ты, ни твой сын не смогли справиться со своими кобелиными инстинктами, у вас теперь тут собралась целая счастливая семья. Три поколения в одной комнате. Так что, если ты рванешь свою бомбу, одним махом убьешь и сына, и внучку.
- Дьявол! Хитрый дьявол!
- Забавно, а? Ты тридцать лет боролся за право людей продолжать свой род, Хесус! Вместо того, чтобы растить своего собственного сына. Вместо того, чтобы быть рядом с женщиной, которая тебе его родила. Тридцать лет демагогии и трусости! И вот - момент истины. Оказывается, у тебя есть и дети, и внуки. И что же? Ты их взорвешь вместе с собой - ради своей священной борьбы!
- Это неправда! Это ложь!
- Поучительная история, а, Хесус? Человек, который так рьяно отстаивал право на продолжение рода, уничтожает своих потомков вместе с собой!
- Ты подстроил это...
- Может, все же не стоило тебе размножаться?
Рокамора утирает пот со лба, перехватывает детонатор другой рукой, дает отдохнуть затекшим пальцам. Моргает, оглядывается на меня.
- Он?!
- Именно он, Хесус. Ты обрел сына! Я пытался вас познакомить и раньше, но...
- Раньше? Когда... Когда он должен был меня убить? Это ведь ты его послал?! Ты все это подстроил! Натравливал его на меня...
- А вышло бы забавно, разве нет? Я такое встречал где-то в мифах Древней Греции. И тоже вполне поучительно.
- Все это - только чтобы отомстить мне?
Все, что со мной случилось за последний год, все эти странные несвязанные друг с другом события начинают обретать смысл. Моя жизнь начинает обретать смысл. Только какой?
- Отомстить? Отомстить - шлюхе, трусу и ничтожеству? Нет, скорее проучить тебя.
- Взял моего сына... Сына Анны... Вырастил из него монстра... Тридцать лет готовить его для этого... Ты безумец! Ты больной человек!
- Монстра? Он милый. Я только чуть-чуть помогал ему двигаться по служебной лестнице. Ян ведь теперь тысячник Фаланги, герой освобождения Барселоны! Ты разве не гордишься сыном? Сыном, которого так хотела моя бедная жена?
Моя бедная жена.
Вернул домой.
Заботился до конца.
Маленькое деревянное распятие из моих воспоминаний-кошмаров. Распятие на стене в замке-бунгало, в заколдованном доме на острове посреди рая. То самое, к которому всегда обращалась моя мать. То, у которого она просила прощения и защиты.
Оно висит ровно напротив той странной маленькой комнаты, которой так боится Эллен Шрейер. Комната с узкой кроватью, с дверью без ручки и со стеной из банковского пуленепробиваемого стекла, которое можно зашторить или открыть из коридора - снаружи, но не изнутри.
- Ты... - горло пересохло. - Ты...
Но Шрейер не слышит меня. Голос пропал.
- Ты! - кричу я ему. - Ты держал ее там! В этой комнате! Это тюрьма! Это одиночка!
Без окон, без экранов, без возможности спрятаться - если хозяин решит оставить занавес открытым. Это аквариум. Аквариум, в котором Анна Шрейер отбывала свое пожизненное заключение. И видно из него ей было только распятие, висящее на стене напротив. То самое, с которым она учила меня разговаривать, когда мне было плохо или страшно.
Я заботился о ней до конца.
Она просидела все эти годы, все эти десять лет просидела в гребаном аквариуме?! Моя мать?!
- Ты зверь! Зверь! Настоящий зверь - это ты!
- Я? - он сухо смеется через динамик. - Разве? Мы должны были быть рядом. Она и я. Всегда. Настоящая, чистая любовь. Без примесей. Высшей пробы. Что я получил? Предательство. Я проявил великодушие. Умолял ее отказаться от ребенка. А она сохранила тебя мне назло. Боженька ей, дескать, велел. Она думала, что обманет меня. Что сможет сбежать. Что он ей поможет, покровитель деревянный. Она сама выбрала старость. И я подарил ей старость. Но она не была одинока. Я каждый день приходил к стеклу и делал снимок. Это было просто. Она все время торчала у стекла, ждала, пока я открою. Хотела повидаться со своим Иисусом. А я показывал ей, как она стареет.
- За что ты ее так?! Такие муки - за что?! - шепчет Рокамора. - Я не знал... Господи, если бы я знал... Почему ты не мог просто дать ей развод?!
- Я очень верный муж. Я не заводил других женщин, пока Анна была жива. И я не садист. Я не мучил ее! У нее всегда было хорошее настроение, Хесус. Я не хотел, чтобы она захирела раньше времени, поэтому в воде, которую она пила, всегда были растворены таблетки счастья. Жаль, не могу показать тебе ее фото. На них она всегда улыбалась.
- Я этого тебе так не оставлю! Подонок! Мразь...
- Людоед! - подсказывает Рокаморе Шрейер. - Но что ты можешь сделать? Нажать кнопку? Все кончено, Хесус. Я не зря ждал тридцать лет. Ты, конечно, свободен выбирать - заставят ли тебя твои дети стать цифровой куклой и присоединиться к труппе остальных выпотрошенных революционеров, или ты превратишь их в горелое мясо. Я бы голосовал за первый вариант. Мне нравится Ян. Я к нему уже как-то привык. Но воля твоя.
- Ты меня использовал, - говорю я. - Как орудие. Как инструмент. Использовал и бросил подыхать.
- Так себе инструмент, - откликается Шрейер. - Ничего не мог сделать как следует. Закрутил роман с девкой, которую должен был убрать, да еще и эта история с Эллен. Яблочко от яблони, а, Ян?
- Ты знал?
- Я пересматриваю видео с камер безопасности. А разве вы не для этого пришли к нам в гости?
- Не смей ее трогать!
- Еще один любитель пустых угроз. Не волнуйся, Ян. Это ведь я вас познакомил, ты не забыл? Эллен упрямствует, не хочет пить таблетки. Пришлось подыскать ей фаллоимитатор. Решение временное, конечно...
Эл сидит в углу - красный, как рак, мучительно озвучивает беса. Но перебивать сенатора Эриха Шрейера он не отваживается. За дверью какая-то суета, лают неразборчиво, что-то звякает.
- Очень мило, что ты печешься о ней, но, право, не стоит. Она моя, Ян. Она никуда никогда не денется. Она всегда будет рядом со мной. Она знает, что случилось с Анной, и не хочет сидеть в той комнате, оставаясь вечно юной и прекрасной. То, что ты потыкался в нее, не дает тебе права что-то воображать. Не будь, как твой отец. Как безмозглое животное. Я так надеялся, что ты сможешь быть лучше. Что я выращу из его грязного семени высшее существо, в назидание этой обезьяне и в память о моей любимой жене. Я так надеялся, что сможешь стать достойным вечности, Ян!
- Думаешь, ты можешь играть людьми? Думаешь, ты бог? Ты думаешь, ты бог?! - ору ему я.
- Если не я, то кто? - сердечно смеется Эрих Шрейер. - О, погодите-ка... Приходят сообщения из «Вертиго». Хесус, твои друзья только что снесли три уровня башни «Вертиго». Кто там был? Ульрих? Пенеда?
Рокамора молчит. Рука дрожит от усталости. Он смотрит на Эла, смотрит на меня - и молчит.
- А, Хесус? Что ты примолк? Давай, жми на кнопку! Настоящий революционер должен уметь уйти красиво, чтобы жить в веках! Жми на кнопку, стань Че Геварой! Не будь размазней!
Черные точки на бетонном полу. Рокамора дышит тяжело.
Стеклянный взгляд Беатрис из окна второго этажа. Бешено крутящееся солнце. Надувная черепаха в укороченном океане. Лаборатория. Все сгинуло. Олаф с дырками в животе.
- Хочешь, я тебе помогу? Там, снаружи, все уже заминировано. Титры для новостей уже заготовлены, Хесус. Ты уже совершил этот теракт. Никто не удивится.
Моя дочь, которая так славно молчала, замкнувшись на Бертину титьку, снова начинает пищать, расходится все больше и больше.
- Она обкакалась, - сообщает Берта. - Подержи-ка моего, я попробую тут как-нибудь.
- Выруби комм, Эл, - говорю я, помогая себе пистолетом. - Столько информации, голова пухнет. Давай, вырубай.
И Эл слушается меня.
- Давай ее сюда, - говорю я Берте, сую пистолет в карман. - Сам все сделаю. Тряпка сухая есть?
- Сдавались бы вы лучше, - хрипит Эл. - Зря сдохнем.
Рокамора облизывает губы, опускает детонатор вниз, перекладывает осторожно эспандер из закоченевших пальцев одной руки в другую.
Смотрит на меня безотрывно. Я вытираю желтое. Черт, воды бы. Она узнала меня, успокоилась, следит за моим лицом.
Идет время. За дверью молчат. Эл потеет беззвучно, только мотает головой, чтобы стряхнуть севшего ему на волосы кузнечика.
Вселенная схлопывается. К Земле летит огромный метеорит, и через несколько минут ничего не останется. Я вытираю детские какашки.
- Я не знал, - говорит мне Рокамора. - Не знал, что он с ней такое сделал. И с тобой.
Неужели этот человек - мой отец? Тот самый, кого я всегда презирал и ненавидел? Я ведь никогда не искал его. Зачем же я его нашел?
Это все Аннели. Она заставила меня думать, что моя мать жива. Это она подала мне пример прощения. Обманула меня. Обманула меня и тоже умерла.
Моей матери нет.
Вот так: надеешься, что мир плоский и бескрайний, а он оказывается мячиком, болтающимся в пустоте, и, куда бы ты ни плыл, все равно вернешься в исходную точку. Все про него известно. Нет в нем тайн.
- Они обе умерли, - говорю я Рокаморе. - Никого не осталось.
- Никого, - он облизывает губы; глаза у него из стекла - и плавятся.
- Это ваша внучка, выходит! - указывает Берта на голую маленькую девочку, которую я оборачиваю в кусок чужого платья.
- Не понимаю, - говорит Рокамора.
Я тоже не понимаю.
Он глядит на ребенка в моих руках.
- Как вы ее назвали?
- Никак.
- Это ее ребенок, - объясняет он себе. - Ее, Аннели.
- Но не твой, - напоминаю я ему. - Ты ведь попросил меня тогда сделать Аннели аборт, помнишь? Твой ребенок остался там, на полотенцах. Я не успел им помешать. Был занят. Разговаривал с тобой.
- Не надо. Не надо так.
- Ты сделал с ней то же, что и с моей матерью. Просто мне повезло чуть больше.
- Покажи мне ее, - просит он.
- Да пошел ты.
Он мигает.
- Ты мог умереть вместо нее? - спрашиваю я у своего отца. - Вместо них?
- Надо было, - отвечает он. - Лучше бы я умер тогда.
Перехватываю ее поудобней. Хотя бы ей я могу сейчас пригодиться. Она смотрит на меня серьезно, нахмурено. Наверное, готовится уснуть.
- Расскажи мне про нее. Про мою мать.
Отец кашляет. Трет свободной рукой потемневшую полосу на горле. Зачем-то прикасается к брикетам взрывчатки на своем поясе - нежно, задумчиво. Держится за них, будто подзаряжается.
- Я бросил ее, - выговаривает он. - Шрейер прав. Я трус и ничтожество.
- Не это...
- Да, я бросил ее. Да, мне стало страшно. Когда она сказала мне про беременность. Взять все на себя. Начать стареть. Морщины. Болезни. Седина. Это как смертельная болезнь, как проказа, как приговор. За что?! Почему я?!
- А-а-а. Баю-бай.
- Я просто не хотел стареть! Что в этом такого?! Я еще не пожил достаточно! Ничего не успел увидеть! Почувствовать! Сделать! Не испытал всех женщин! Не выезжал никуда из Европы! Почему я должен ставить на себе крест? Я не хотел ребенка! Это была не моя блажь! Я не знал, что она не предохраняется! Отказаться от всей жизни, от себя, от будущего, лишь бы ублажить ее? Лишь бы она смогла понянчиться с кем-то? Почему?! Где справедливость?! Где смысл?! Я слишком молод! Мне надо пожить еще! Для себя! Я умею наслаждаться жизнью! Едой! Вином. Женщинами. Приключениями. Я люблю свое тело! - он сжимает и разжимает пальцы свободной руки. - У нас ничего нет, кроме этого. У меня. Как я могу променять все это на ребенка? На кричащее маленькое животное? Зачем?..
- Скотина ты, вот ты кто! - говорит ему Берта.
- Конечно, я сбежал. К другим женщинам. К путешествиям. К жизни. Я решил не думать, что с ней. С Анной. Это ее помешательство... Господь смилостивился. Чудо, что она беременна. После пятидесяти лет. Она была так счастлива. Я не стал даже заикаться об аборте. Просто ушел и поменял ай-ди.
Я киваю. Мои седые волосы болят, мои морщины болят от малейшего движения, когда я ему киваю.
- Ясно.
- Она... Говорила тебе, кто я? Вспоминала обо мне?
- Нет.
- Никогда? Ни разу?
- Нет.
- А я вспоминал о ней каждый день. Все делал, чтобы забыть. Женщины. Таблетки. Уехал из Европы. Не помогало. Засну с кем-нибудь - проснусь среди ночи, спросонья, кажется - она. Сначала боялся, что она на меня укажет Бессмертным. Потом понял - она лучше меня оказалась. Храбрее, благородней. Всегда помнил, что я ее приговорил. Дни считал: вот сейчас она рожает, наверное. Вот сейчас ребенку месяц. Сейчас год. Не мог позвонить. И чем дальше - тем хуже. Как это сделать? Если сразу не получилось, потом еще сложнее. У других имен не помнил, путал их все время, лица мелькали. А ее... Не мог из головы выбросить. С ней знаешь, как было?
Эл втягивает сопли, возится, ему не очень-то тут, слушать чужие излияния. Он ведь нормальный парень, Эл. Только туповат: никак не возьмет в толк, что на земле ни хорошего нет, ни плохого.
- У нее был такой сильный вкус, что после нее все остальные казались пресными. Я за свою любовь не готов был отдать ничего, а она - всю свою жизнь пустила под слом. Пентхаус, мужа-сенатора, приемы-балы, кругосветные путешествия. Бессмертие. Красоту. Она была очень красивой.
- Я помню.
- Меня так никто не любил, как она. Все потом было легкое, полое, случайное, просто чтобы время скоротать. Такого, как с Анной, потом тридцать лет не было. Все там осталось, в прошлом. Как она в вечернем платье от Шрейера прямо с Венского бала ко мне на тубе ехала, в мою каморку. Как я ее водку пить учил. Как она меня учила ласточкой в море с утеса прыгать, на Сардинии. Как затащила меня к христианам, в подвалы какой-то башни, и как там священник-старик нас с ней обвенчал. Я это все так помню, как будто это вчера было. То, что год назад было - расплывается, а это - четко, ярко.
Коммуникатор у Эла принимается пиликать и мигать. Но Хесус Рокамора загипнотизировал меня, ввел в транс; слушаю его голос, как кобра флейту.
- Шрейер, - Эл выворачивает ко мне связанные запястья.
- Не надо, - говорю я ему.
- И вот, гляди - я молодой. Моложе своего сына. Мальчишка. А внутри - труха. Все пытаюсь, пытаюсь то же самое почувствовать, что тогда... Ничего. Все ерунда какая-то, шелуха. Душа стареет. Тело молодое, все может, а душа стерлась. Нервы, что ли, измозолены? Не получается так чувствовать, так мир видеть, так радоваться, как тогда. Цвета поблекли. Не похоже на реальность. Не то. Все не то. Выходит, зря сбежал? Ничего лучше, чем Анна, со мной не случилось. Только Аннели.
Если бы он был только Хесус Рокамора, я бы давно оборвал его. Но мне сказали, что он мой отец. И вдруг у него появляется какая-то власть надо мной. Просто сказали, я даже не ткнул в него сканером. Почему так может быть?
- Аннели. Она невероятно на твою мать похожа. Как будто Анна ожила. И имя ее еще... Как реинкарнация. Понимаешь? Как будто я ее нашел. Второй шанс. Последний.
- Мужики... Может, без меня договорите? - спрашивает Эл. - Неловко как-то.
- Наплевать, - рассеянно отзывается Рокамора. - Отсюда нет выхода. Ты не понимаешь?
Снова звонит комм.
- Жить хочется, - говорит Эл.
- Он не взорвет нас, - убеждена Берта. - Он еще не всю совесть растерял.
- Заткнитесь, - просит Рокамора.
- Аннели - не моя мать.
- Я знаю. Я пытался ее подстроить, подладить под Анну. Стрижка... Одежда... Квартиру нам снял. Как будто я живу с ней то, что не прожил с Анной. Как будто я тогда не сбежал от нее, от твоей матери. Как будто не было этих тридцати лет.
- А потом ты сбежал от Аннели.
- Не от Аннели! От ребенка. От старости!
- Ты не спасешься от старости.
- Аннели меня спасала. Я с ней себя по-другому чувствовал... Только когда она пропала, я понял: мне она нужна, а не реинкарнация. Я снова влюбился. Может, в последний раз влюбился. Я пытался ей сказать это... После Барселоны. Но был пьян. Начал объяснять всю историю... Она не стала меня слушать. Ушла. И вот... Это как проклятие. Я проклят. Женщины, в которых я влюбляюсь, умирают.
- Ты просто трус, - говорю ему я. - Трус и кретин.
- Я понял потом, что ей сказал. Десять месяцев пытался найти ее. Звонил каждый день. Все известные сквоты обошел. И когда ее комм включился... Сегодня... Первое, что я подумал - это западня. И еще - сразу же: какая разница? Если я ее еще раз упущу, как мне потом всю вечность в пустоте? Взял всех с собой, последних - и сюда. Вот... Подстраховался, - он оглаживает свой пояс, криво улыбается.
- Да, - киваю ему я. - Я тоже подумал - западня. И тоже приехал.
- Прости меня, - его пальцы дрожат от напряжения. - Прости, что изуродовал твою жизнь. Прости, что сгубил твою мать. И за Аннели... Я люблю ее. Если ты тоже ее любишь, ты поймешь. Что нам теперь делить? Я хотел все исправить. Но я ничего не могу сделать.
У меня нет сил его ненавидеть. Нет сил даже его презирать. Он идиот, я идиот. Мы два несчастных идиота, которые не могут поделить двух мертвых женщин.
- Хочешь подержать ее? - я покачиваю сверток.
- Спасибо. Но я не могу, - говорит он. - Рука занята.
- Точно. Забыл.
Я улыбаюсь. И он улыбается мне тоже. Мы смеемся.
- Психи вы, - качает головой Берта.
- Слушай, ты, - Рокамора оборачивается к Элу. - Соедини меня с этим.
Шрейер возвращается в комнату.
- Итак?
- Мне нужны гарантии. Я хочу знать, что ты их отпустишь. Живыми. Моего сына и мою внучку. Иначе никакого смысла.
- Обещаю, - говорит Эрих Шрейер. - Ты сдаешься с непопорченной шкурой, Ян забирает ребенка и может идти на все четыре стороны.
- И эта женщина, которая сидит тут с нами, - добавляю я. - Она тоже сможет уйти? Вместе с ребенком?
- Это не по закону, - бурчит Эл. - Ее надо оприходовать.
- Сволочь ты! - плюет в него Берта. - Молчи, когда люди разговаривают!
- Мне все равно, - говорит Шрейер. - Долго ей все равно не прогулять.
- Это неправильно, - настаивает Эл. - Закон есть закон.
- Дайте мне еще пять минут с семьей, - просит Рокамора. - А потом можете заходить.
Левой рукой он засучивает правый рукав и осторожно вытаскивает из детонатора тонкие, как волос, проводки. Потом мигает и медленно разжимает пальцы.
- Затекли - ужас, - он встряхивает их. - Твое предложение еще в силе?
Осторожно принимает ее на руки, заглядывает ей в лицо.
- Красивая.
- Сейчас не видно. У нее глаза Аннели. И моей матери.
- Улыбается.
- Что-то хорошее снится.
- Меня сейчас от вас стошнит, - говорит Эл.
За дверью - скрежет: разбирают баррикады, разминируют дверь.
Идут за отцом.
Я опускаю руку в карман.

Неповоротливые армейские саперы, похожие на космонавтов, медленно, словно паря в невесомости, раздевают Рокамору. Он стоит, задрав руки, с улыбкой на одну половину лица, как инсультный. Мы остаемся пока тут же, при нем – саперы боятся, что он передумает.
Двое людей в броне и балаклавах грузят на носилки Эла, застегивают его с головой в черный мешок, вытирают руки. Бедный Эл.
Стоим и ждем, пока все закончат.
Рокамору уводят. Он оборачивается, бросает последний взгляд через плечо, кивает мне. Мы остаемся с Бертой – посреди цеха, засыпанного снулой саранчой: насекомых, видимо, тоже попользовали газом. Роботы сгребают кузнечиков, надышавшихся последствиями свободы, везут утилизировать их в саркофаг: они отравлены, в пищу их теперь употреблять нельзя.
Никого из сквота отца Андре тут нет. Всех загребли; Луису, Саре, Инге – укол; Георга и Бориса, фантазеров, которые придумывали, как все поправить в нашем сбоящем мироздании – в интернат, форматировать под ноль. Наташу, которая пела «Небо-небо-небо!» – в интернат, учить отбирать детей и колоть спящим смерть.
А я держу свою дочь на руках. Ко мне никто не подходит, никто не отбирает ее у меня, никто не скручивает мне руки. Делаю шаг к выходу, потом еще один, еще – никто не пытается меня остановить, как будто вообще не замечают меня.
Эрих Шрейер сдержал свое слово.
И все же я движусь медленно, боясь чересчур резким движением прорвать этот мыльный пузырь, который делает меня невидимым и неуязвимым. Мимо Бессмертных в масках, которые тянутся во фрунт перед черным мешком, мимо толстых смешных саперов, толкущихся в своей невесомости, мимо неизвестных людей в штатском, которые снимают разоренный цех крохотными шпионскими камерами, мимо пучащейся на фотообои из-за стекла саранчи, которую не выпускали, которой повезло.
Берта идет за мной маленькими шажками, как собачонка на привязи: верно, ей больше некуда деваться, или она думает, что обещание свободы, которое ей дал Шрейер, приклеено к обещанию, которое он дал мне.
- Тебе надо прятаться, – говорю я Берте. – Убегай.
Но она все равно продолжает семенить рядом.
Подъемник приходит пустым, мы с Бертой единственные его пассажиры, и сообща мы занимаем в нем тысячную часть пространства. Мы едем, как будто так и должно быть, как будто ничего не случилось в «Промпарке», как будто никто не знает о нашем существовании. Никаких репортеров, никакого оцепления. Мой коммуникатор отключился, никто не может до меня дозвониться. Да и кто станет?
Мы приезжаем на грузовой терминал – тут темно, как всегда. Несем свет с собой, садимся молча на полукилометровую скамью. Ждем поезда. Краны и конвейеры продолжают работать. За минуту до конца света они будут работать в обычном режиме.
Моя дочь спит, не слышит громыхания контейнеров и подвывания электромоторов. Как ее зовут, интересно?
Мы с Бертой сидим почти спина к спине, она отвернулась – достала одну грудь, мнет ее, сцеживает молоко мне в дорогу.
Подлетает сияющая туба, полная народом, опорожняется прямо на нас. Вот они все: журналюги, зеваки, полицейские, которых не позвали сразу. Табуном несутся мимо, мы успеваем сгорбиться, укрыть детей. Контрабандой проносим их внутрь.
Уезжаем из «Промпарка», аппендикса перенаселенной Европы, туго набитого пустотой. Берта отдает мне бутылочку с молоком. Прячу ее в карман. Мои карманы пухнут от важных вещей.
Едем молча.
На следующей остановке Берта выходит. Никто за ней не идет. Она машет мне с уплывающей станции, я киваю ей в ответ.
Человек, который дремал напротив меня, паренек с милым и открытым лицом, просыпается. Улыбается мне.
- Вам звонят, – сообщает он, снимает и протягивает свой коммуникатор.
- Что?
- С вами хочет поговорить господин Шрейер.
Я беру его комм пальцами, которые жгутся и зудят так, как будто я отлежал руку, как будто я час безотрывно сжимал эспандер и кровь только начинает возвращается в пересохшие русла.
- Привет, Ян! – голос Эриха Шрейера бодр и жизнерадостен. – Ты как?
- Что тебе от меня надо? Ты же обещал отпустить нас.
- Ты свободен, Ян! – он смеется. – Я человек слова. Извини, что отвлекаю. Просто хотел сделать тебе одно предложение…
- Нет, – я возвращаю коммуникатор улыбчивому пареньку; тот качает головой.
- Я понимаю, ты зол на меня. Эта история с Пятьсот Третьим, твои звонки из тюрьмы… Этот балаган, который устроил твой отец. Я просто хотел преподать тебе урок, Ян. Проучить тебя немного. Мне кажется, ты уже сделал выводы.
- Выводы?!
- Тебе, наверное, кажется, что ты в отчаянном положении, а? С ребенком на руках, без дома, без денег, стареешь… Но это не так, Ян. Это совсем не так. Ты ведь не думал, что я тебя брошу в этом положении?
Он говорит со мной из моей протянутой руки, мне неудобно держать ее так, и я кидаю комм на пол. Шрейера это ничуть не смущает.
- Давай забудем все, что с тобой случилось? Как страшный сон. Как будто ничего этого не было, а? Ни твоего романа с моей женой, ни твоих нарушений Кодекса, ни сорванных миссий, ни этой поганой истории с женой твоего отца, ни твоей старости?
- Забудем?!
- Забудем. На каждое правило есть исключения! Знаешь, у меня ведь есть связи в этом центре в Брюсселе. Мы можем назначить тебе это их лечение. Хоть завтра. Остановить старение, повернуть его вспять. И даже карьерой тебе не нужно будет жертвовать. Восстановим тебя в Фаланге. Тысячником.
- Какого черта?!
Но, против воли, чувствую: внутри проворачивается какой-то валик, лопаются какие-то струнки, звучит надтреснуто какая-то мелодийка – трусливо, прижато. Неужели это возможно?! Неужели такое возможно?! Запрещаю себе ее слушать; его слушать.
- Это правда. И в этом нет ничего сложного, поверь. Мне просто нужно, чтобы ты доказал мне, что выучил мой урок. Что ты прошел испытание.
Я качаю ее, чтобы она не проснулась. Качаю. Качаю. Качаю. Стараюсь унять себя.
- Испытание?!
- Да.
- И натравить на меня мое собственное звено?! И выпустить Пятьсот Третьего, чтобы он перегрыз мне глотку?! Это тоже?!
- Испытания не заканчиваются с выходом из интерната, Ян. Они не заканчиваются никогда. Не надо их бояться. Испытания делают нас сильнее. Я просто закалял тебя.
Вот что. Вот оно как. Это все, все это – закалка. Просто закалка.
- И что я должен сделать, чтобы пройти его?..
- Показать, что достоин бессмертия.
- Как? – в горле першит, я кашляю.
- Сдай ребенка.
- Сдать? Ребенка? Моего ребенка?
- Именно так.
- Куда? Тебе?
- Нет! Мне-то он к чему? Думаешь, я и вправду их ем? – он смеется. – Определим ее в интернат. Конечно, анонимно, так что увидеть ее ты больше не сможешь, зато будущее ей гарантировано. Тебе ведь нечего с ней делать, Ян! Нечем кормить ее, негде с ней жить, не на что воспитывать, обучать, и тебе самому предстоит еще масса расходов – здоровье, сам понимаешь… Что ты ей можешь дать? Жизнь на мясокомбинате? В трущобах?
- То есть, я просто отдам тебе свою дочь, и все вернется на круги своя? Все будет так, как было?
- Да! Именно так.
Я аккуратно кладу ее на сиденье, неспешно нагибаюсь и поднимаю с пола валяющийся коммуникатор. Парень улыбается мне ободрительно: молодцом, все делаешь правильно.
- Мне надо подумать.
- Подумай. Подумай, Ян. Дня тебе хватит?
- Должно хватить, – отвечаю я не сразу.
- Вот и прекрасно. Знаешь, что? Оставь-ка ты себе этот коммуникатор. Вдруг надумаешь раньше? Или я захочу с тобой поболтать. Или просто узнать – где ты, что ты. Оставь.
- У меня есть условие.
- Еще условие? Ладно, давай.
- Ты мне скажешь, где она. Где сейчас моя мать.
- О! Никаких проблем. Дам тебе адрес. Это все?
- Все.
Надеваю браслет на руку, застегиваю ремешок. Подбираю ребенка.
- Я вот не понимаю, – помолчав, спрашиваю я у него. – Зачем это тебе? Что стоит обещание, которое ты даешь своему врагу? Ты мог просто прихлопнуть нас там. Всех. Зачем тебе эта игра?
- Игра? – теперь, как я окольцован, получается так, что Шрейер говорит прямо в ухо ребенку. – Какие уж тут игры! Мне не нужны тела, не нужны рабы, Ян. Если ты не сделаешь этот выбор сам, ты никогда не будешь на моей стороне. Думаешь, у твоего тела – или у тела твоего биологического отца – есть хоть какая-то ценность? Брось, мои ребята могли бы великолепно отрисовать его модель по кадрам его барселонского концерта. Мне хотелось, чтобы он сам на это решился. И мне важно, чтобы ты принял свое решение сам.
- Что же ты, души собираешь? – усмехаюсь я.
- Вот курьез! А мне кто-то говорил, что ты не веришь в души, – смехом отвечает мне он.
Кто-то? Я сам. Только не ему, а Аннели.
- Все честно, Ян. Все карты открыты. Мое предложение действует один день. После этого я забываю о твоем существовании навсегда, – только в конце он перестает играть, и его голос становится похож на настоящий: пустой, композитный. Адрес я сейчас пришлю. Я верю в тебя, Ян. Не подведи меня.
Парень салютует мне и выходит на ближайшей станции. Моя дочь просыпается – не от голоса Шрейера, а от того, что он умолкает.
Мяучит, хлопает желтыми глазами. Просит есть. И надо переодеть ее в сухое.
Выбираюсь на следующей остановке, черт знает, что там за башня. По указателю нахожу трейдоматы, покупаю на чужой коммуникатор какие-то копеечные тряпки, не вижу чужих взглядов, качаю ребенка, ищу туалет. Закрываюсь в кабинке для инвалидов – белые стены, поручни, идеальная чистота: инвалидов в Европе почти не осталось и скоро не станет совсем.
Захлопываю унитаз, расстилаю тряпки на крышке, подмываю ее, перепеленываю – автоматически, все движения давно отработаны. Она улыбается мне благодарно, гугукает что-то. Сую руку в карман.
Чтобы принял свое решение сам. Чтобы ты принял свое решение сам.
В соседней кабинке кто-то кашляет.
В коммуникаторе сидит, нога на ногу, Эрих Шрейер, и слушает, не заговорю ли я вслух сам с собой – или с ней. Он любезно предоставляет мне выбор – но никакого выбора у меня на самом деле нет.
Покормив ее – нет, не до конца, нам еще целый день надо что-то есть! – я прячу обратно бутылочку и выбираюсь из своей раковины. Трень! – приходит сообщение от сенатора Эриха Шрейера.
Кладбище «Пакс», башня «Центурия». Под именем Анна Аминская 1K.
Кладбище.
Не знаю, на что я надеялся. Мне раз за разом объясняли: она умерла. Умерла. Умерла. А мне чуть-чуть, тайно, казалось: нет, пуповина не разорвана, уходит, скручиваясь, как старый телефонный провод, куда-то в противоположный конец галактики, как капельница, и каплет по ней ко мне кровь, идет тепло.
Вот. Просто казалось.
В башне «Центурия» нет ничего примечательного. Какие-то пошловатые аллюзии на римский стиль, неловкие статуи легионеров с короткими мечами, охраняющие лифты. Платформа переполнена, толпы схлестываются, как пешие войска, в рукопашной.
Все сто человек, уместившиеся в кабину, принимаются шептаться, когда я выбираю ярус, где находится кладбище, и съеживаются, отползают от меня. Как будто это не кладбище, а ров, в который свалены разлагающиеся трупы, собранные после чумы.
Никто из них наверняка не бывал на кладбище раньше.
Я не исключение.
Во всей Европе кладбища выглядят одинаково. Это закон, ему лет двести, наверное, что-то там об унификации стандартов мест упокоения. Логика предельно ясна:
в нашем мире и для живых не хватает места, транжирить его на мертвых – преступно. Поэтому на каждого умершего человека на кладбищах приходится места ровно столько, сколько необходимо, чтобы сохранить его генетическую информацию и оставить от него нечто зримое – для тех, кто захочет его навестить. Никаких памятников, никаких надгробий: все это отдает поклонением смерти. Некрофилией. Кладбища – гетто для мертвецов и больше ничего.
Все сто человек шарахаются от дверей, когда лифт останавливается на нужном уровне. Там, за дверями, белая стена и одна только надпись, без пояснений: «PAX» – «Пакс» – четкими деловыми черными буквами на подсвеченной желтой табличке, на каких в хабах делают указатели туалетов. Кладбищам запрещено рекламировать свои услуги в общественных местах, но те, кто едет в лифте, знают о соседстве.
Остаемся вдвоем в этом коридоре: я и она.
Она бодрствует, уцепилась за меня глазенками, и когда я ее замечаю – давай что-то свое гулить. Улыбаюсь ей – и она улыбается мне.
Иду по пустому белому коридору до матовых стеклянных ворот. Тут терминал: требуется назвать свое имя и имя того, кого посещаешь. Все визиты регистрируются, ротозеям и смертепоклонникам вход заказан.
Анна Аминская 1K. Ян Нахтигаль 2Т.
Принято. Эрих Шрейер – человек слова.
Створки бесшумно раздвигаются в стороны; впереди – полумрак. Делаю шаг – и дух захватывает. Кажется, что сейчас провалюсь. Потом понимаю – иду по настилу из толстого прозрачного композита, вроде того, за которым сидела, напичканная антидепрессантами, моя мать. Под прозрачным полом – пустота, яма, ров. Застыли под ним у самого края маленькие хромированные манипуляторы, похожие на хирургические инструменты. Могильщики.
Дорога по воздуху.
Скованная льдом река.
Извиваясь лениво, река уводит и вправо и влево от входа. Светят только слабые диоды – на дне, потолок и стены черные, голые.
Нет ни музыки, ни любых иных звуков: запечатались ворота, и даже скрежета лифтов в шахтах не слышно. Если есть в этом мире тихое место – вот оно.
Она беспокоится: крутится, корчит мордочку так, будто тужится или страдает; хнычет, просыпается. Ей не нравится тут.
Ступаю медленно, громко по стеклу-льду, поворачиваю за первый круглый угол, и ворота остаются где-то позади. Смотрю под ноги: тут редко кто бывает, на льду ни царапины.
И вот начинаются – они.
Один, другой, третий – сначала почти неразличимые, почти растворенные в свете донных ламп, потом все гуще и гуще…
Волосы.
По одному на каждого мертвого человека. Все, что мы можем себе позволить сохранить. Все, на что у нас осталось свободное место.
Каждый волос – носитель ДНК. Так мы когда-то успокаивали умирающих: однажды человечество научится восстанавливать людей по генокоду, и тогда все мертвые воскреснут, и вернутся к живым, и с тех пор навсегда пребудут с ними вместе.
Их обманули, конечно: своих-то девать некуда.
По одному волосу от каждого из миллионов умерших. Все кладбище невелико, но волосам не тесно. Рыжие, светлые, темные теряются в серебряной массе.
Под стеклом гуляет легкий ветерок: вентиляция. Гладит, ерошит волосы давно утилизированных людей.
Все дно как подводной травой покрыто ими. Течет призрак-ручей подо льдом, ворошит выцветшие старые водоросли своим воздушным течением, и есть после смерти какая-то тихая, странная жизнь.
Дно сияет ровно, бело. Лучи пробиваются через шевелящуюся подводную траву, бьют в круглый потолок коридора-туннеля, и там, по потолку, струится вторая река, из света и теней.
Я бреду осторожно, как бы не провалиться под лед, потом останавливаюсь случайно.
Один из этих волос – моей матери. Анны Аминской 1К. Странная фамилия. Странное имя. Какое отношение все это имеет к тем обрывкам в моей памяти?
Каждый волос сидит в своем гнезде, у каждого – номерок. Можно попросить у терминала указать – какой твой, и манипулятор приведет, подсветит, познакомит. Но я не прошу. Не хочу. Да и потом – сколько можно удерживать, выделять его среди этого подводного поля? В этом и расчет: чем мертвые отличаются друг от друга?
Я опускаюсь на пол. Кладу ее на лед рядом с собой.
Трогаю прозрачный композит – пустота не пускает руку.
Привет, мам.
Вот я. Нашел тебя.
Я не хотел тебя находить. Я боялся, что наша с тобой встреча такой и получится, поэтому оттягивал ее, сколько мог.
Понятия не имею, о чем говорить с мертвыми – и как.
Давай, как будто я тебе звоню. Как будто мы с тобой разговариваем по телефону.
Привет. Сто лет тебя не слышал. Как ты? Я ничего. Устроился, зарабатывал, были все шансы на карьеру. Потом влюбился. В хорошую девушку. Вот и вся моя жизнь. Как ее зовут? Аннели. Нет, знаешь, я не хочу сейчас об этом. Давай в другой раз.
Хорошо, что мы наконец созвонились.
Я, конечно, думал, что это случится раньше.
Но ты ведь так и не позвонила мне в интернат.
Не дала мне отказаться от себя. Не освободила.
Не перебивай меня. Это важно.
У меня не было шанса сказать тебе, как я тебя ненавижу за все, что ты сделала. За то, как ты исковеркала, испохабила, зачеркнула мою жизнь. Как я презираю тебя за твое мимолетное блядство, которое стоило мне двенадцати лет унижений. Какой дурой ты была, что доверилась своему деревянному божку, что уговаривала глухого истукана смилостивиться, защитить и спасти.
Ты не позвонила мне – и я не узнал, умерла ли ты, или тебе было попросту плевать на меня. Всем звонили их родители, все распоследним ублюдкам, только не мне.
Конечно, я решил, что тебе на меня плевать. Что ты избавилась от меня и забыла обо мне с радостью. В это мне было легче поверить, и слаще, и больней. Когда ты маленький, проще страдать от того, что нелюбим, чем знать, что любить тебя некому.
Я рос и ждал твоего звонка, мам, ждал возможности поговорить с тобой, увидеть тебя, проклясть тебя и вырваться на свободу. Но ты не звонила.
Ты сидела за банковским стеклом, за бархатным занавесом в своем собственном доме, упиралась лбом в это стекло и ждала, чтобы твой муж раздвинул портьеры и ты могла поговорить со своим богом.
Наверное, ты и со мной разговаривала, мам – как я сейчас говорю с тобой. Наверное, ты разговаривала со мной без остановки все эти десять лет, пока не состарилась и не умерла. Только я не слышал твоего голоса, как ты сейчас не слышишь моего.
Где-то позади шипят ворота, раздвигаясь, пропуская внутрь еще одного посетителя. Тукают подошвы по композиту, я оглядываюсь – но тот, другой, замирает где-то за поворотом, не хочет выходить ко мне. А я не пойду к нему.
Ребенок ворочается беспокойно, ему неуютно на твердом льду, и я беру его на руки. Вот, мам. Это твоя внучка. Ей два месяца, и ее никак не зовут. Она умеет держать головку, улыбаться и говорить звуки, для которых не придумано букв. Больше она пока не умеет ничего. И я никогда не увижу, как она садится, как она встает, как делает первый шаг; не услышу, как она скажет мне «папа», а мамы у нее нет.
Я помню, что называл тебя сукой, и шлюхой, и проклинал тебя за то, что ты не выскребла меня из себя ложкой, что ты зачала меня как ублюдка и родила меня как ублюдка – в секрете, в грязи, на ходу. Клял тебя за то, что не пожелала зарегистрировать меня и уберечь меня от интерната. Ведь так у нас было бы целых десять лет вместе.
Это моя дочь, мама, она не умеет говорить, но она кое-что мне объяснила.
Оказывается, это страшно – назначить себе день, когда умрешь. Когда расстанешься со своим ребенком навсегда. Страшно думать, что не сможешь быть с ним, когда он будет учиться ходить и бегать, неуклюже танцевать и шепеляво, не в ноты петь. Не выслушаешь его первые рассуждения. Не сможешь вытирать его, кормить, подмывать, оберегать. Ей всего два месяца, и я только начал это понимать. Не могу представить, каково мне пришлось, если бы твой муж сделал мне это предложение через год.
Ты не могла выскрести меня, потому что любила и хотела меня.
Не могла зарегистрировать меня как должно, потому что боялась даже думать о том, что меня однажды с тобой разлучат.
Я был для тебя чудом. Я, мокрый злобный крысеныш, был для кого-то чудом.
Я ждал твоего звонка двенадцать лет. Боялся, что ты попросишь у меня прощения, а я не успею спохватиться – и прощу тебя. Окажусь слабаком и никогда не вылуплюсь из дьяволова яйца. Мне было так досадно, что ты даже не попыталась извиниться передо мной, потому что я втайне был готов тебя простить. Против всех запретов, понимаешь? А ты не позвонила.
У меня на руке что-то пиликает, мерцает и пиликает.
Коммуникатор.
Шрейер.
Он нарочно звонит, отвлекает, встревает. Нарочно. Мне приходится говорить про себя, потому что его коммуникатор наверняка работает, как подслушивающее устройство – но этот человек, кажется, читает мои мысли.
Отказываюсь подходить. Он умеет ждать, пусть подождет еще чуть-чуть. Мне осталось сказать совсем немного.
Прости меня, ма.
Не ты у меня должна просить прощения, а я у тебя. За то, что требовал выскрести себя. За то, что проклинал тебя. За то, что мечтал от тебя отречься и сбежать, что хотел сделать тебе больно, что дулся на тебя, что был безмозглым идиотом, что был хамом, дрянью, щенком. Пожалуйста, прости.
Только сейчас я начинаю понимать – что это: отдать ребенка. Живот себе вспороть, диафрагму рассечь, стучащее сердце из себя вынуть – и отдать. Кому-то. Навсегда. Ты не сумела. Значит, не сможешь меня научить. А мне нужно знать, как это сделать.
Прости меня. Простишь?
Я глажу композит, бьюсь об него, хочу погладить тебя по голове – и не могу пробиться сквозь стекло. Шевелится подо льдом сухая трава, бескрайняя седая грива, волосы – волосы, всюду только волосы, и нет нигде спрятавшегося в них лица.
Как будто она отвернулась от меня. Я тычусь, тычусь в них – и не могу ее найти.
Какая из этих былинок – ее? Все.
Тишина. Шевелится трава бесшумно.
- Мама!
Она не отвечает мне ничего. Не может меня простить.
Длинные гудки. Нет соединения.
Я целую лед на прощание. Он не тает от моих губ.
Трудно найти силы встать – скольжу, но поднимаюсь. Беру на руки свою дочь, ее внучку. Иду, шатаюсь, по кругу, по течению двух ручьев, одного под ногами, другого над головой, и кто-то убегает поспешно впереди меня, заслышав мои тяжелые шаги. Шрейер их прислал – быть рядом со мной, следить, контролировать меня.
Выхожу по коридору-реке туда же, к матовым стеклянным воротам, ухожу и больше не оглядываюсь.
Снова звонит Шрейер. Я отвечаю ему.
- Долго ты там, – озабоченно произносит он. – Знаешь, это же просто ее волос. Так себе символ. У меня в пылесосе, может, несколько таких завалялось.
- Мы можем встретиться?
- Не сейчас, Ян. И не раньше, чем твой ребенок окажется в интернате. Я склонен верить людям, Ян, но ты сейчас в сложном положении. Ты принял решение?
- Мне нужно еще время. Я хочу разобраться в себе.
Приезжает лифт; двое или трое пассажиров смотрят на меня так, будто знают уже все, что я делал на кладбище. Я пытаюсь спрятаться, затереться в человеческие тела, но Эрих Шрейер глядит на меня сквозь все камеры наблюдения, его ухо пристегнуто к моему запястью, он отслеживает каждый мой шаг.
Я не смогу ему отказать. Никакого выбора у меня нет.
Целую ее в лоб.
- Фу, как можно! – морщится длинноногая девушка с выщипанными бровями.
- Заткнись, – говорю я ей. – Заткнись, сука.
Прижимаю ее к себе крепче. Крепко-крепко.
А потом мы едем туда, где раньше был город Страсбург. Есть еще кое-что, что мне нужно сделать, пока мы еще вместе.
Я сутки не спал, кроме той краткой дремы по пути к Беатрис, когда я встретился с матерью. Но сна нет. Сижу, обнявшись с ней, сюсюкаю какую-то ахинею, ей нравится, мне опять суют милостыню или шипят в спину, что я не имею права таскать детей в общественном транспорте, но мне уже все равно.
Пока я добираюсь до башни «Левиафан», четверть срока, который мне дал Шрейер, уже истрачена. Выхожу – и мне в лицо заглядывают камеры, и кто-то топочет вслед, шепчет что-то в рации, в толпе ряженые, Эрих Шрейер барабанит пальцами по крышке своего стола в кабинете, обставленном пустым пространством.
Спускаюсь на нулевой уровень.
Хлопаю деревянной дверью подъезда четырехэтажного строения, прыгаю по отесанным булыжникам мостовой. Зеркально-черное небо над Страсбургом по-прежнему отключено, слепо и глухо. Вечная ночь: тем ярче горят красные фонари, тем уютней свет в окошках пряничных домиков. Но даже если бы тут стояла кромешная тьма, путь к Либфрауенмюнстеру я бы отыскал за минуту – вслепую.
Собор Страсбургской богоматери возвышается надо всем блядским кварталом, как Гулливер над лилипутским городом-макетом, ему приходится пригнуться, чтобы пройти под небо-крышку. Тут – мой любимый бордель; я иду сюда привычно, не задумываясь даже о том, что с ребенком меня могут не впустить. Сегодня я тут не для того, чтобы пользовать этот собор, мне нужно от него другое.
Стучу в его ворота; жду метрдотеля в ливрее, жду приглашения в клуб «Фетиш». Но на мой стук никто не обращает внимания. Мюнстер кажется неживым, монолитным, как скала – словно в нем нет никаких полостей, в которых можно было расселить святых или костюмированных шлюх.
Отталкиваю тугую дощатую створу, проникаю внутрь.
Запустение; пульт-ресепшен метрдотеля опрокинут, по полу разбросаны визитки блудниц, освещения нет, и ни отголоска музыки, смеха или стонов. Повсюду только пыль и крысиное дерьмо.
В тишине себя слышно куда лучше.
Бреду, качая на руках свою дочь, между веками полировавшихся деревянных скамей. Ниши, в которых проститутки оживляли Библию, брошены. Громадный круглый витраж над входом в ночи кажется черным пятном – так, наверное, выглядит закрытое око бога.
Каждый мой шаг улетает под своды, эхо шаркает по потолку, я один заполняю своими маленькими звуками – покашливанием, распевами бессловесной колыбельной, вопросами «Есть тут кто?» – весь огромный собор.
- Свет! – приказываю я.
- Свет! – приказывает эхо.
Ничего. И никого.
Ни единого клиента, которому интересно было бы осквернить святое место. Ни одной продажной женщины, которая торговала бы собой в храме. Ни упрямых сектантов, ни сумасшедших воителей, которые рвались бы сюда обличать богохульников.
Подсвечиваю себе дорогу коммуникатором Эриха Шрейера.
На полу нахожу повестку судебных приставов: закрыто за долги.
Клуб «Фетиш» разорился. Даже сериал о жизни Христа его не спас. Не смог оплачивать счета за аренду, электричество, ремонт. Наглый мелкий рачок забрался в окаменелую броню гигантского доисторического моллюска, покрутился-покрутился – и сбежал.
Я тут один. Последний и самый верный клиент.
Она опять ворочается, плачет – и кто-то плачет на небе. Сучит ножками: снова проголодалась. Ничего, ничего, тише-тише-тише, у нас тут есть еще немного молочка, тетя Берта нам припасла. Треть ты уже съела, так что не жадничай, нам надо экономить.
Она не хочет отпускать соску, гримасничает, ноет; забираю насилу. Лучше немного сейчас и немного потом. Отнимаю молоко, поднимаю, ношу столбиком – чтобы она срыгнула воздух, которого она наглоталась от жадности.
Шагаю туда-обратно по разоренному нефу, стучу ей по спинке, пока она наконец не выпускает со смешным звуком лишнее и не перестает страдальчески ныть. Только тогда она опускает тяжелую голову на тонкой слабой шее мне на плечо.
Но не засыпает – а таращится в темноту, угукает, подергивает своими лапками: живет. Почему-то ей тут не страшно. Я глажу ее по голове, по прозрачным жидким кудрям, осторожно, чтобы не надавить на пульсирующий родничок. Она молчит, разрешает мне побыть с собой.
Двадцатиметровым айсбергом в ночном океане выплывают на меня старинные астрономические часы, гордость клуба «Фетиш» и всех предыдущих обитателей этой окаменелости. Те самые, у которых я всегда останавливался, когда приходил сюда раньше. Два круглых циферблата: на нижнем – римские цифры, на верхнем – шесть позолоченных планеток Солнечной системы на шести черных стрелках. И еще одна часть: та, что показывает прецессию земной оси. Та, полный оборот которой занимает двадцать шесть тысяч лет. Помню, я все бился над загадкой: зачем часовщику было создавать механизм, который так его унижал, который показывал ему цену и длину всей его жизни: один жалкий градус, одно из трехсот шестидесяти делений циферблата.
Я приходил сюда вечно юным. Тогда я считал, что часовщик вручную вращал планеты, перематывал десятки тысяч лет, как ему вздумается – чтобы так спорить со с сиюминутностью и бессмысленностью своего земного срока.
И вот я смотрю на эти часы опять. Они стоят. Некому подзавести – а я не умею.
В Либфраумюнстере время стоит. Застыли минуты, застряли планеты.
Мое собственное солнце теперь носится вокруг земли, как то взбесившееся светило в окнах Беатрис Фукуямы; за каждый день мне начисляют сто. Мне осталось совсем чуть-чуть этих мелькающих лет, если я не приму предложение Эриха Шрейера.
Сейчас я по-другому понимаю часовщика. Он покушался на время, но иначе.
Крутить стрелки, играть шестеренками – мальчишество. Ты ведь всегда помнишь, что просто влез часам в потроха; что мошенничаешь, и глупо. Верить, что стрелки заведуют временем, могут только трехлетние.
Но создать механизм, всего один цикл которого длится в триста шестьдесят раз дольше тебя самого! Своим умом, гаснущим углем, искрой от костра, вообразить – и своими руками, нежными, сиюминутными, из гниющего слабого мяса сделанными – собрать из металла нечто такое, что покусится если не на вечность, то хотя бы на двадцать шесть тысяч лет! Сто поколений твоих потомков проживут и умрут, а стрелка, которую ты запустил, не закончит еще и трети оборота!
Вот как: часовщик забрался в свои часы и в них переждал смерть.
А я, если умру, после себя не оставляю ничего.
Только ее.
Где-то над парализованными планетами должен быть заводной кукольный театр: на нижнем балкончике Смерть с косой оприходует раскрашенных человечков, на верхнем фигурка Иисуса окормляет фигурки своих апостолов.
Тонким лучиком вытаскиваю Христа из мрака. Он щурится – глаза отвыкли от света. Как тебе тут одному? Когда с тобой последний раз разговаривали? Поговори со мной – мне тоже больше не с кем.
Нет, мы не знакомы.
Но моя мать мне много про тебя рассказывала, когда я был маленьким. Не бойся, он защитит тебя. Когда-то он тоже был младенцем и его тоже пытались отыскать воины могущественного и недоброго царя, который боялся, что младенец вырастет и однажды сместит его. Иисус родился чудесно, и у него было великое предназначение, и Господь защитил его от злых людей. Так же он защитит и тебя, и злые люди, которые хотят найти и отнять тебя у меня, будут запутаны и отведены от нас. Он тебя защитит, и его отец будет приглядывать за тобой всегда, потому что ты тоже появился на свет чудом, и ты тоже назначен для великих дел. Ты будешь властвовать над умами, и вдохновлять людей, и спасешь нас. Я не понимал и половины этих слов, но запомнил их все, так часто она мне их повторяла.
И что?
Нас нашли, меня швырнули в интернат, а мать бросила меня и больше никогда не появилась в моей жизни.
Ты всегда был мне как брат – старший брат, у которого все получалось. Тебя не загребли злые люди, ты вырос и стал богом; а у меня, видишь, все никак не выходит. Единственное, чего мне удалось добиться – уберечь свою задницу. Зато душой моей все пользовались всласть все, кому не лень, так что я просто решил, что ее у меня нет, а значит, и ущерба никакого.
Я же не знал, что ты – просто раскрашенная фигурка в хитроумном механическом балагане, и что без подзавода ты остановишься. Ты, наверное, хотел бы мне помочь, хотел помочь моей матери, которая звала тебя из-за стекла – да только что ты мог сделать?
Коммуникатор звонит.
- Ян? – Шрейер трясет меня. – Что ты там делаешь?
- Пришел в бордель.
- В бордель, – констатирует мой голос под сводами.
- Я знаю, где ты. Я спрашиваю, что ты там делаешь. Он же закрыт.
Я жму плечами.
- Прогорел! Даже как публичный дом он никому не нужен, – говорит Эрих Шрейер. – Когда столько веков обманываешь людей, однажды они все же тебя раскусят!
Молчу.
- Она ведь успела напичкать тебя всей этой ахинеей, а, Ян? Я давно заметил. У тебя вечно в башке вертятся какие-то фразочки, какие-то картиночки из Библии для самых маленьких, а? Что? Она, верно, и тебе внушала, что твое рождение – чудо из чудес? Что ее боженька поцеловал? Никакого чуда, Ян. У меня не может быть детей. Шестьсот миллионов сперматозоидов за каждую эякуляцию – и все мертвые, и так всегда. И я всегда считал это благословением. Только держал это при себе. А вот Рокамора заделал твоей матери ребенка без особых усилий. Так себе чудо, а? Но этот враль на кресте, этот херов мученик – он ведь ни на какие другие и не способен. Хоть бы она лоб себе расколотила о то стекло – думаешь, он бы шелохнулся?
Он так спешит, что эхо не успевает разобрать всех его слов, и из темных углов, от закопченного потолка ко мне отражением возвращается неразличимое бессмысленное бормотание.
- Ему плевать – на нее, на тебя, на всех нас! Черт, как же она достала меня своими молитвами, ты бы знал! Каждое утро, каждый вечер, всегда, по любому поводу! Она сошла с ума, Ян. Она была сумасшедшая! И это он, торговец душами, он свел ее с ума! Мне надо было сослать ее в дурдом, чтобы она закончила свои дни среди других психбольных, в смирительной рубашке, привязанная к койке! Но я ее любил. Я не мог ее от себя отпустить. Ты думаешь, я был с ней жесток?
Торговец душами. Мученик. Враль на кресте.
Узнаю свои слова. И не узнаю их. Кто их в меня вложил?
Я навожу луч на фигуру Христа – и не хочу отпускать его от себя. Протяни мне руку. Или, хочешь, я протяну тебе свою.
Может, дело в том, что я ослаб? Может, я, как Аннели, что-то понял лишь сейчас?
Шрейер кричит еще что-то, беснуется, будто ему дурно в этом здании, он требует, чтобы я отсюда немедленно ушел. А я, как эхо, больше не разбираю его слов. Думаю о своем.
Вспоминаю слова отца Андре. Беднягу, который родился в грехе, виновным – чтобы всю бесконечную жизнь искупать вину своей службой. Справедливо? Нет, но ему и не нужна была справедливость. Орудие господне. Вот кем он себя считал. Самое нелепое орудие, какое можно себе представить. И что за человек, который счастлив быть инструментом? Я не инструмент, сказал я ему.
Оказалось, инструмент.
Способ свести счеты. Актер одной роли. Орудие и инструмент.
Но не в твердых деревянных ладонях бога – а в надушенных мягких руках Эриха Шрейера. Человека, который уморил мою мать, набивает сейчас чучело из моего отца и которому я должен буду отдать своего ребенка. Это он наделил мою жизнь смыслом. Это для него я плясал, в его персональном заводном балагане кружился, чтобы сенатору было не скучно коротать вечность.
Это он может снова подарить вечность мне. А Иисус не может ничего.
- Ян?! Ты слышишь меня?!
- Да. Я уже ухожу.
- Уже ухожу.
- Не подведи меня, Ян.
Шрейер отключается, а я остаюсь. Она уснула, и я укладываю ее поудобней.
Сейчас. Сейчас. Уже пора.
Среди икон есть одна – главная: с богоматерью. Любимая и ненавистная. К ней я ходил сюда. К ней, а не к шлюхам, и не к бедному Христу, у которого все что-то просят, забыв, что он – просто человечек из дерева.
Вот она.
Смотрю на мать, на сына.
Я, как и Эрих Шрейер, не верю в чудеса.
Но она спасла мою Аннели. Спасла Аннели от меня, и спасла меня от себя самого.
В безбожном мире можно призывать грешников, чтобы служить, и можно заставлять людей грешить, чтобы призывать их, так говорил отец Андре. На войне все средства хороши.
Я не верю в чудеса, но доктора отказывали Аннели в беременности, а она зачала.
Отнимаю ее от своей груди и протягиваю богородице.
- Вот, – говорю я. – Я придумал ей имя. Вам же там нужно имя, да? Пусть ее зовут Анна.
- Пусть ее зовут Анна.
- Как мою маму.
- Как мою маму.
Говорю с ними, забыв, что тут пусто, что мы всех разогнали; говорю так, как будто хозяин этой гигантской окаменевшей раковины не вымер сто миллионов лет назад.
Они не слышат меня, зато Эрих Шрейер слышит все.
В интернате у нас отбирают фамилии, но имена разрешают оставить.
На выходе из Мюнстера меня ждут, прикинувшись гуляками; но я-то уверен, что им не нужны ни женщины, ни мужчины – они, как и хозяин, принимают таблетки безмятежности, чтобы оставаться трезвыми всегда.
Гляжу на часы: еще есть время.
Иду, спотыкаясь о щели между булыжниками, к двери в одном из четырехэтажных домов; сворачиваю не туда и утыкаюсь в себя, отраженного в черном зеркале, в выключенном экране. Борода неряшлива, волосы спутаны, под глазами мешки, на руках младенец; я черен, и мир черен: черное на черном.
В лифте – новостные экраны. Бегущей строкой – о том, что последний из лидеров и идеолог Партии Жизни, Хесус Рокамора, решил прекратить борьбу и сдался властям.
- Не пропусти его вечернее телеобращение! – звонит мне Шрейер.
- Что вы с ним сделали?
- С оригиналом, ты имеешь в виду? Разве это важно? – спрашивает он. – Говорю тебе, тела не имеют особой ценности.
- Он… Он еще жив?
- Если кто-то вдруг заскучает по Рокаморе, он может обратиться ко мне. Мои ребята могут изобразить все, что угодно. Даже то, на что сам Хесус никогда не был способен. От раскаяния до отцовской любви, – он смеется. – Какие планы, Ян?
- Я бы хотел еще немного побыть со своим ребенком.
- Еще немного, – подчеркивает за меня Шрейер и исчезает.
Я хотел бы отвезти маленькую Анну в Барселону, еще раз рассказать ей там о ее матери, показать, где мы с ней гуляли, но той Барселоны, куда нам надо, больше нет; там теперь все чисто и пахнет розами или свежей мятой; нет дымных бульваров, нет креветок на синтетическом масле, нет уличных танцовщиц, жонглеров и шпагоглотателей, карнавальных шествий, семейных ужинов, где одного чана с рисом карри хватает на тридцать ртов, нет детей, сидящих на коленях у дедов, нет граффити на стенах с требованиями справедливости, нет рождения и нет смерти. Нет бабки Анны, юной Марго, нет Раджа, который обещал принять нас, как родных. Ничего этого. Копоть отскоблили, дерьмо вычистили, детей депортировали. Я сам уничтожил Барселону, я предал ее и уничтожил; по моим молитвам на нее были низвергнуты потоки кипящей серы. Но я не ушел из нее, так и не смог из нее уйти. Я остался там, и сера лилась на мою голову, и я сгорел там, и там навсегда остался, призрак в городе призраков.
И все, что я могу рассказать тебе, маленькая Анна, я не имею права произносить вслух. Могу только думать это, иначе тот человек, который отбирает тебя у меня, все услышит. Я буду говорить с тобой беззвучно, Анна; ты не узнаешь разницы – ты ведь все равно не запомнишь меня, не запомнишь ни единого из моих слов. Может, с тобой останутся ощущения: тепло моего тела, отзвуки моего голоса, чужое молоко, которым я тебя кормил в последний день. Я люблю тебя, и я постараюсь провести с тобой как можно больше времени, прежде чем отдам тебя навсегда.
В кафе нас не обслуживают, да и пошли бы они; мы едем в Сады Эшера и устраиваем пикник на траве. Ем бутерброды из трейдоматов, позволяю себе немного текилы – конечно, «Картель». Привет, Базиль. Черт, мне сейчас очень нужно немного текилы. Бутерброды с питательной массой, траву нельзя примять – ну и пусть; это все лучше, чем ничего. Не обращаю внимания на молодежь, которая пялится на нас, снимает нас, уродов, на свои коммуникаторы.
Не обращаю внимания и на то, что вокруг нас – на небольшом расстоянии – сидят в траве несколько таких, которым Шрейер может смело доверять свои особые поручения: дубленая кожа, пластиковые гляделки.
Конечно же, нас никто не отпустит.
Я расстилаю свой балахон, разворачиваю ее… Анну, обтираю, оставляю подышать: прости меня, последние сутки ты все время связана по рукам и ногам.
Она глядит на порхающие фрисби, улыбается подвешенным в воздухе, апельсиновым деревьям, машет своими смешными крошечными руками и ногами, пытается перевернуться с живота на спину. Хороший день для нее: столько ярких цветов. А ведь сегодня первый раз, когда она покинула мясной цех, понимаю я. Жизнь только начинается.
Я даю ей еще немного молока – но не все. Растягиваю его, как могу, словно это от молока все зависит.
Кто-то вызывает полицию, чтобы вышвырнуть меня с моим вонючим ребенком вон из благоуханного рая, но патрульных ко мне не подпускают дубленые люди: показывают какие-то документы, отправляют восвояси. Мы с тобой под защитой, Анна.
Потом мы засыпаем – она у меня под боком, под моей рукой; я не боюсь, что посланники Шрейера украдут ее у меня: у тел ведь нет особой ценности, я должен отдать ее сам. Просто так уютней.
Надеюсь, что мне приснится Аннели – так бы мы еще раз побыли втроем перед тем, как расстаться. Но Аннели не хочет прощаться с ней, и я не вижу ничего. Тебе легко, Аннели: ты умерла.
Я просыпаюсь – все еще день; да ведь тут всегда день.
Заканчивается наш день; истекает время-песок, мы сидим, обнявшись, в пустой колбе часов. Как я еще мог потратить его, на что спустить? Не знаю. У меня плохо с воображением.
Поднимаюсь, стараясь не разбудить маленькую Анну. Люди с выдубленными лицами поднимаются за нами.
Мы садимся в тубу на станции «Октаэдр» и мчим со скоростью четыреста километров в час – в главный транспортный хаб, повторяя навыворот другую мою поездку – ту самую, которая должна была закончиться смертью Рокаморы и Аннели. Все получилось, видите, господин сенатор, в лучшем виде, хотя и несколько позже, вы можете на меня рассчитывать и впредь.
Прибываем на семьдесят второй гейт – тот, который я в прошлый раз выбрал ошибочно: страх толпы, головокружение, паника.
Прибываем как раз вовремя, чтобы застать начало телеобращение Хесуса Рокаморы на самом большом купольном экране Европы. Отец огромен, он занимает весь небосвод – и воссоздан с великой тщательностью. Я не замечаю фальшивки ни в чем: это он, мой отец, муж моей жены, мой враг и мой союзник, говорит мне и миру, что дело Партии Жизни зашло в тупик, что слишком долго Партия отказывалась смириться с реальностью, признать, что Закон о выборе – единственный способ избежать демографической катастрофы. Это был самообман – и обман всех, кто нам поверил, говорит он. Но невозможно обманывать людей бесконечно долго – однажды ложь все равно станет всем очевидна. Народ отворачивается от нас, сквоты закрываются, финансирование иссякло. У меня нет больше сил продолжать дело, которое не нужно никому. Поэтому я, как лидер Партии Жизни, объявляю сегодня о ее роспуске. Всем нашим активистам предписываю наладить сотрудничество с властями: вам гарантирована неприкосновенность. Время борьбы прошло, настает время конструктивного сотрудничества на благо нашего будущего. Будущего Европы.
Все. Последний акт сыгран.
Жующая жвачку многомиллионная толпа, притихшая было на время покаяния сатаны, снова приходит в движение; онлайн-капитуляция только зафиксировала положение вещей – Европа закрылась окончательно. В ней больше нет места для Хесуса Рокаморы, для Раджа и Девендры, для Аннели Валлин и ее матери, нет места для меня с моей дочерью. И всех это устраивает. Все за.
Я стою посреди десяти миллионов человек; все куда-то спешат, но только не я. Они дышат моим воздухом, трутся о меня, касаются моих рук, ног, моего лица, они облепили меня – но мне это нравится. Нет головокружения, нет тошноты. Я излечился от боязни толпы. Я хочу быть в толпе, я должен быть в толпе. Я живу ей, я ее часть, я хочу отдать ей свою душу. Пусть забирают мою испарину и воздух, который я выдыхаю, пусть соскребают с меня чешуйки кожи и уносят на себе – в Париж, в Берлин, в Лондон, в Лиссабон, в Мадрид, в Варшаву. Пусть разберут меня на мельчайшие части всего. Я купаюсь в вас. Я дышу вами. Я вас люблю.
Где-то рядом, наверное, бултыхаются и агенты Шрейера – только в этой толпе меня не так просто увидеть и схватить. Каждую секунду отправляются из главного хаба сияющие стеклянные шприцы-поезда во все концы Европы. Вскочить на один из них – на любой из них – и сгинуть навсегда?
Но сколько это – всегда? Несколько коротких жалких лет.
Крепко прижимаю к себе Анну.
Осталось сделать один вызов.
Шрейер медлит; молчание затягивается, ожидание забито рекламой «Иллюмината» –таблеток предназначения. Наконец, подходит – когда я уже отчаиваюсь дозвониться.
- Смотрел телеобращение Рокаморы, – сообщаю я ему. – Поздравляю.
- Эллен умерла, – отвечает он.
- Эллен? Что?
- Умерла.
Наши виражи на маленьком черном турболете; она вцепилась в штурвал и несется в стену; эта стена закрывает от нас всю землю.
Искореженная машина, которую я еле и неловко посадил. Открытый люк-пещера. Эллен, загнанная, ощерившаяся.
- Как? Как умерла?
- Прыгнула вниз. Выбралась в открытый сектор крыши и спрыгнула, – он докладывает мне об это так, будто следователю рассказывает. – В нашем доме. Разбилась насмерть, – зачем-то добавляет он.
«Я буду торчать в своем пентхаусе под стеклянной крышей, молодая и красивая, вечно, как муха в янтаре…»
«Она моя, Ян. Она никуда никогда не денется. Она всегда будет рядом со мной. Она знает, что случилось с Анной, и не хочет сидеть в той комнате…»
Это ведь моя вина, тупо соображаю я.
«Ты не предлагал мне сбежать вместе…»
Люди толкают меня, протискиваются мимо, спрашивают сердито, какого черта я тут застрял. Я только прикрываю руками Анну, оплетаю ее жестким каркасом, и валандаюсь с ней безвольно, оторванный штормом буй на мутных волнах.
- Как глупо, – говорит композитным голосом Эрих Шрейер. – Как глупо. Как глупо.
Исцарапанная пластинка, соскакивающая игла, бесконечный повтор.
Эллен.
Ты оказалась сильней моей матери. Ты расколола янтарную глыбу изнутри. Разбила ее и сбежала. Сбежала туда, откуда Эрих Шрейер не сможет тебя вернуть.
- Она оставила меня одного, – произносит он. – Одного.
Шуршание, а не голос. Шорох, а не голос.
- Ты боишься, – вдруг понимаю я. – Ты тоже боишься бесконечности. Боишься остаться один – навсегда.
- Чушь! – кричит он. – Ересь!
И рассоединяется.
Эллен не готова к вечности. Эрих не готов к вечности. Ян не готов к вечности.
Бедная Эллен. Бедная храбрая Эллен.
Опустошение.
У меня внутри ничего: нет силы, нет костей, нет мяса, нечем держать удар. Я даже не чучело, набитое наполнителем, я даже не шкура, спущенная таксидермистом, я пуст так, как пуста оболочка отрисованной трехмерной модели.
Моя маленькая Анна плачет неслышно: снова проголодалась. У меня осталось еще молоко, совсем чуть, то, что я сберег, отрывая ее от соски. Достаю из кармана бутылочку, зубами снимаю крышку, подношу соску, она тянет свои губы, причмокивает в предвкушении. Делает глоток – и куксится, съеживается, отворачивается. Нюхаю соску: молоко скисло.
Мне нечем ее кормить.
Вот и все. Закончилось мое время.
Эрих Шрейер звонит.
- Ну что? – говорит он твердо, крепко. – Что ты решил, Ян?
- Она не оставила ничего? – спрашиваю я у него. – Записки?
- Я не хочу говорить об этой суке, – чеканит Шрейер. – Она предала меня. Она думала, что этим доставит мне неприятности. Что научит меня чему-то. Но знаешь, что? Она не утянет меня за собой. Я почти ничего не чувствую, Ян. Я наконец перерос это.
Я киваю ему.
- Наконец стал достоин бессмертия?
- Пора решать, Ян. Пора и тебе решать. Что ты забыл там, на вокзале? Ты ведь не думаешь, что сможешь сбежать? И что изменит твой побег? Я и так был с тобой слишком терпелив.
- Ты ведь все решил за меня, разве нет? Какой у меня выбор? Твои люди шляются за мной целый день. Ты ведь все равно не дашь мне уйти. Ты вцепился в меня, как в Эллен, как в мою мать. Что будет, если я скажу тебе «нет»?
Я спрашиваю это просто так. Эриху Шрейеру нельзя говорить «нет», и мне это прекрасно известно.
В толпе двадцать пятым кадром мигает дубленое лицо со вставными глазами-пластмассками; вот-вот они нас снова обнаружат.
Пора прощаться, маленькая Анна.
Больше не спорю с Эрихом Шрейером. Просто сбрасываю его и вызываю условленный ай-ди. Никто не отвечает – но так и должно быть. Через секунду мне приходит сообщение: «48».
- Ты не сможешь сбежать, Ян, – мой коммуникатор включается самопроизвольно, он, как и я, как и весь этот мир, принадлежит Шрейеру. Сколько раз ты уже пытался, а? Не сможешь. Теперь и некуда. Некому вас больше спрятать. Ты мой, Ян. Я просто хочу, чтобы ты это понял сам. Хочу, чтобы и ты тоже перерос человека. Вечность, Ян! Я дарю тебе вечность, юность, бессмертие, а взамен прошу всего лишь…
Я отстегиваю комм и роняю его на землю, и десять миллионов человек топчутся по нему, давят голос Эриха Шрейера в пыль, в труху.
Прячу Анну под балахон, напяливаю капюшон, ухожу в людей, но не сражаюсь с толпой, а плыву сквозь нее, позволяю ей относить себя то в одну, то в другую сторону – и приближаюсь к двенадцатому гейту.
Когда я наконец добираюсь туда, там уже вовсю идет посадка на поезд, отбывающий в Андалусию, в башню Тарифа, от которой по Гибралтару идут паромы в Марокко. Значит, Африка.
Меня хлопают по плечу – «От Хесуса» – мы приседаем, погружаемся, и там, среди тел и ног, я укладываю Анну в продолговатую спортивную сумку. Это красивая девушка, по виду арабка, глаза за зеркальными очками, жесткие волосы сплетены в сотню косичек. Странно, я думал, что взломщик Рокаморы окажется мужчиной и азиатом.
- Она с вами? – спрашиваю я.
- Берта? Сядет в Париже. Было нелегко сбросить хвост.
- Ее зовут Анна, – сообщаю я ей, прежде чем накрыть лицо моей дочери марлей. – У вас ведь связи в лагерях депортированных, так? Найдите там Марго Валлин 14О. Это ее бабушка. Больше у нее никого нет.
- Я не брошу ее в любом случае, – кивает мне она. – Это ведь ребенок Хесуса.
Самый большой купольный экран Европы провозглашает новость: сенатор Эрих Шрейер собирается участвовать в президентских выборах.
Черную сумку уносят подводные течения; я выныриваю – и вижу эти лица-маски, эти рыщущие глаза; ищут меня, ищут Анну. Хочу предупредить девушку в зеркальных очках – но она уже сама все видит.
Подносит к губам коммуникатор, шепчет что-то, и по всему хабу моментально гаснут лампы, отключается, взломанный, самый большой в Европе купольный экран. В темноте слышно, как схлопываются синхронно десятки дверей длинного состава – и он отправляется из темной утробы-хаба – в свет, в жизнь.
Вот он, подарок Хесуса Рокаморы на крестины своей внучке.
Тайный подарок.
Прости меня, Эл. Ты был нормальным парнем. Только мир не делится на черное и белое, не делится на хорошее и плохое. Если бы ты только мог это понять. Пристрелить человека, которого знаешь четверть века, только потому что он может выдать твой план спасения твоего ребенка, с которым ты знаком всего два месяца – это правильно или неправильно? Я не знаю, Эл. Я не уверен.
Я ни в чем не уверен.
Вокруг меня – обеспокоенный шепот, женские визги.
Но вот через несколько минут экран загорается снова, мигают заспанно лампы, и размеренный баритон сообщает с неба, что небольшая техническая неполадка устранена, что оснований для паники нет, что все эти десять миллионов людей могут жить, как жили раньше и ехать по своим делам, куда им заблагорассудится.
И они верят, и успокаиваются, и торопятся на свои поезда, которые подлетают к гейтам, набиваются в них и уносятся со скоростью в полтыщи километров в час – во все концы континента, в Варшаву, в Мадрид, в Лиссабон, в Амстердам, в Софию, в Нант, в Рим и Милан, в Гамбург, в Прагу, в Стокгольм и в Хельсинки, куда угодно.
Только я остаюсь на месте.
Столько отъезжающих, и я должен проводить их всех.
- Счастливого пути!
Коммуникатор давно растоптан, и я могу говорить вслух все, что думаю. В этой толчее, в этом вавилонском столпотворении меня все равно никто не услышит и никто не поймет – но тех, с кем мне нужно договорить, тут нет.
Эрих Шрейер.
Поздравляю тебя, Эрих. Ты вставил моему отцу в задницу огромный заводной ключ, ты уморил в одиночке мою мать, ты довел до самоубийства женщину, которая была готова тебе ее заменить, ты истребил всех, кто тебе мешал, ты обернул все чужие ошибки своими победами, ты станешь президентом Европы, а чучела твоих врагов и чучела твоих друзей будут петь тебе осанну.
Ты будешь мудрым президентом, ты будешь бессменным президентом, ты никогда не оставишь свой пост, и твоя Партия никогда больше не уйдет из власти; вы будете править бесконечно, как правит сказочными царствами дракон, как правит Россией Большой Змей.
Ты неуязвим, и даже смерть женщины, с которой ты жил, не пробьет брешь в твоей чешуе. Тебя нельзя перехитрить, тебя невозможно переиграть. Почетно быть твоим инструментом, великое счастье быть твоим союзником.
Я благодарен тебе за твое предложение, но я пасс.
Ты предложил мне забыть все, что случилось, отыграть все назад. Но я не могу забыть ничего из того, что со мной произошло, и не хочу это забывать: Аннели, нашу поездку в страну моего несбыточного детства и нашу счастливую ночь в борделе, где каждая минута была ссужена мне под проценты, которые я никогда не смог бы выплатить, наши прогулки по смрадным и благоуханным бульварам и наш визит к ее беременной матери – без которого я не смог бы простить своего отца; мою собственную мать, и эту комнату в твоем доме, Эрих, комнату за таким толстым стеклом, что она не могла докричаться сквозь него ни до меня, ни до Рокаморы, ни до Иисуса Христа; моего отца, с которого ты заживо содрал кожу, с которым познакомил меня за час до казни, казнить которого ты пытался моими руками; интернат, в котором меня воспитывали и закаляли; моя служба в Фаланге; молочные темные пятна на синем платье; спящие девочки в барселонском католическом приюте; целый город, заваленный отсроченными трупами.
Что из этого я смог бы забыть навсегда? Ничего.
Они все умерли – и никуда не исчезли. А как жить столько, помня, что предал их?
Или мою дочь? Как я забуду ее? И как забуду – себя, который продал свою дочь?
Ничего нельзя отыграть назад.
Бери себе свою пустую вечность, Эрих Шрейер; я тебе не компания.
Меня не приняли в боги. Я даже не человек, Эрих. Я зверюга, я псина. Лучшее из того, что я сделал – сделано мной, потому что так требовали мои инстинкты.
И ты не лучше: думаешь, твое желание вечности – желание быть равным богам? Нет, Эрих. Это ведь просто инстинкт самосохранения, раздувшийся, гипертрофированный, уродливый – самый простой, самый вульгарный из всех инстинктов. Ты просто не пускаешь других жить вместо себя, Эрих. В этом есть от рептилии, от бактерии, от грибка. Но что в этом от бога?
Я мог сказать тебе это раньше, но я берег себя для другого последнего слова.
А сейчас прости – мне нужно сказать несколько слов кое-кому еще.
Моей дочке.
Сколько я не напоминаю себе, что ты мой ребенок, все никак не могу в это поверить. Маленькая Анна Рокамора. Рокамора – ведь это моя настоящая фамилия, так? Значит, и твоя.
Ты будешь расти одна. Я не должен был тебя отдавать, и я не хотел, но я тебя отдал, мне пришлось. Может быть, это ошибка; скорее всего, так. Я всю свою жизнь громоздил одни ошибки на другие, и никогда не умел в них признаться. Не знаю, каким отцом я стал бы, если бы мне позволили. У меня мало талантов. Один, если разобраться: я умею разрушать, а больше ничего. За мной не пойдут миллионы, я не смогу разжечь их сердца и нарисовать им будущее, за которое они будут готовы пожертвовать настоящим. Я ничего не создал – кроме тебя, и даже тебя я сотворил по случайности.
Я прожил короткую и нелепую, уродливую и идиотскую жизнь, Анна. Я никого в этом не виню, даже Шрейера, страшного старика, который просунул свои костлявые пальцы мне в потроха, надел меня на свою руку, как петрушку, и жил за меня. Я слишком долго винил в своей ничтожности других, и все оказались невиновны.
Я уже ничего не исправлю. Те, перед кем я хотел бы извиниться, уже умерли или никогда не существовали. Тех, кого я хотел бы простить, я убил. Я пытался спасти девушку, которую любил – и не смог. Не вышло у меня прожить с ней долгую счастливую жизнь.
Я влюблен в мертвеца, я дружу с мертвецом, и мертвецы мои родители. Я и сам на три четверти мертв, Анна, а ты только начинаешь жить. Я хотел бы, чтобы твои первые шаги были – от твоей мамы ко мне, хотел бы услышать, как ты говоришь эти слова – «папа», «мама», хотел бы, чтобы я мог говорить с тобой, а ты бы все понимала; но я ничего из этого не застану. Ты будешь расти без мен¬¬¬¬я.
Тебе придется начать все с чистого листа. Вашему поколению. Вам – сносить стены, которых мы уже даже не видим. Говорят, раньше мир был другим: леса не были разбиты на пиксели, у бизонов была воля, а старые люди не подыхали в одиночку, как чумные. Мы не знаем такого мира, а вам придется его строить заново. Вам – изобретать, вам – искать, вам – пытаться понять, как человечеству идти вперед, и как сохранять в себе главное. Вам – жить, потому что мы – уже окаменели.
Земля остановилась, Анна. И именно ты должна подтолкнуть ее вперед.
Уверен, ты все сделаешь верно. Ты все сделаешь не так, как сделал бы я.
Ты, может, будешь меня проклинать, но я хотел, чтобы у тебя был выбор.
Может, вам удастся – в космосе или под водой – создать мир, где нам не придется делать выбор между собой и своими детьми. И тебе не придется умирать, чтобы мои внуки жили.
Чудовищная давка в этом хабе; люди Шрейера никак не могут меня отыскать. Ничего, я никуда не спешу. Я буду торчать в этой толчее столько, сколько ноги меня будут держать. Я не боюсь толпы. У меня не кружится голова. Меня найдут, из меня на всякий случай набьют улыбчивое цифровое чучело, а потом пристрелят. Ничего страшного.
Пока-то ведь никому нет до меня дела, никто меня не замечает, но каждый, кто притрагивается ко мне случайно, кто случайно делит со мной глоток воздуха, каждый из этих тысяч – унося с собой часть меня, уносит мой дар. Забирает его в Бухарест, в Лондон, в Бремен, в Лиссабон, в Осло.
Та пробирка, которую я отнял у Беатрис.
Ее вирус. Я не выбросил его. Я хранил его в своем кармане. А потом – в себе. Я кормил молоком Берты своему ребенку, а сам сосал молоко Беатрис.
День прошел. Тот день, который Шрейер дал мне, чтобы сделать выбор. Я сделал его сразу. В первую же минуту. За себя и за вас всех.
Я выждал день, как предписывала Беатрис, и теперь я выдыхаю смерть; смерть – в каждой капле испарины на моем лбу, в каждом случайном прикосновении моих пальцев, в моей моче и в моих поцелуях.
Смерть – и жизнь.
Поэтому я – тут; мне не придумать лучшего места. Шрейер беспокоился зря – я и не думал бежать. Отсюда вирус развезут по всему континенту, а через день те, кто дышал со мной одним воздухом, будут распространять его дальше, у себя дома.
Через неделю все станет так, как было пятьсот лет назад. А за следующие полвека сто двадцать миллиардов умрут от старости – если так ничего и не поймут.
Меня назовут террористом. Но ведь первым вмешательством в нашу ДНК была именно прививка от смерти. Она – настоящая болезнь. А я пытаюсь ее излечить.
Мы в тупике. Система выдает фатальную ошибку.
У нас нет решения – значит, надо уступить место тем, кто его найдет.
Я просто обнуляю человечество. Перезапускаю его.
Мне хотелось бы думать, что я – орудие в твердых деревянных руках того, кто понимает: люди заблудились. Нас надо пробудить, нас надо осадить, нам надо напомнить, что такое человек.
Напомнить тебе, Эрих Шрейер. Пошел ты.
Мне хотелось бы думать, что все в моей истории неслучайно – мое рождение, слова, которые мне шептала моя мать, вмешательство, которое не позволило мне совершить убийство, зачатие, которое произошло вопреки науке, ребенок, которого я не заслужил и никогда не должен был нянчить. Что таков был промысел того, кого я привык ненавидеть и отвергать.
Но я беру всю ответственность на себя.
Может быть, я ошибся – но людям ведь свойственно ошибаться.


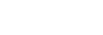











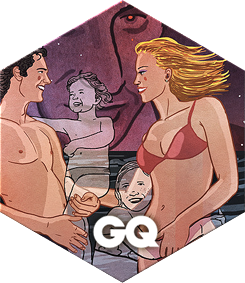























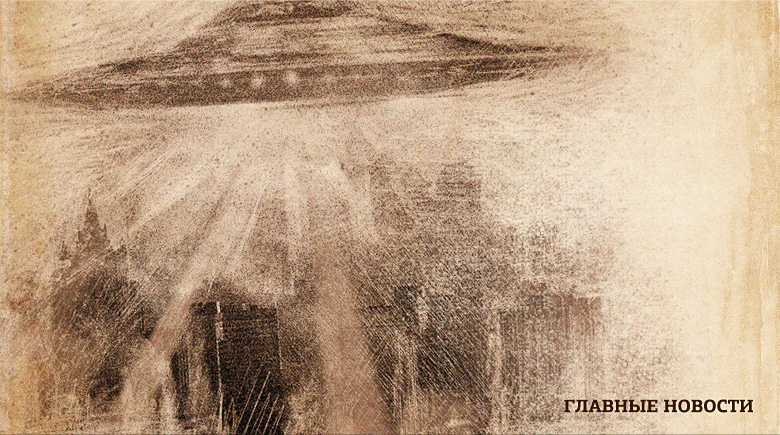
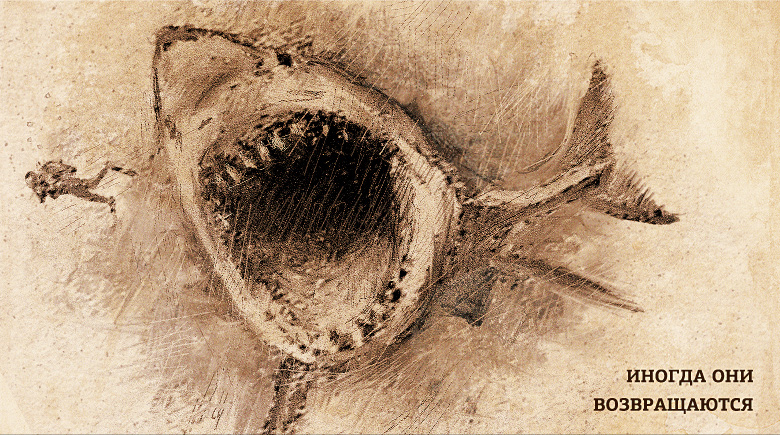

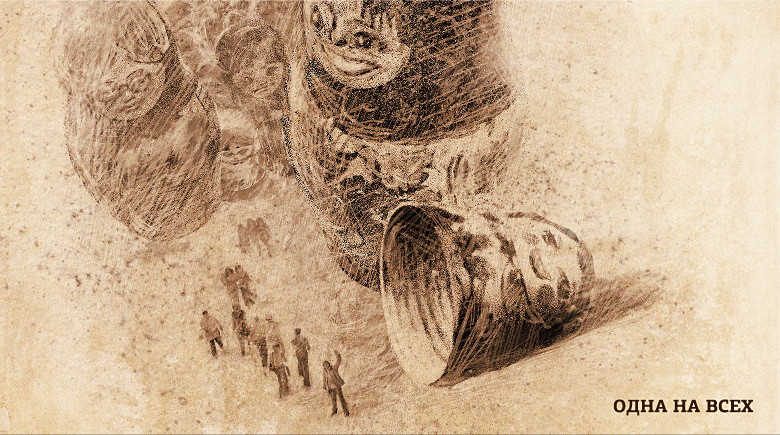

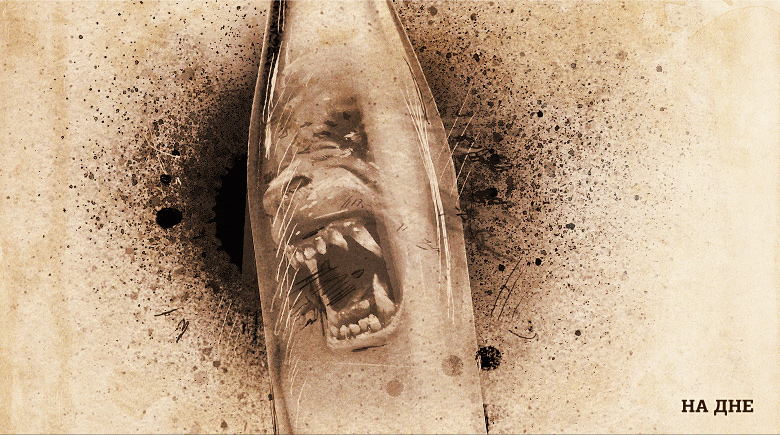

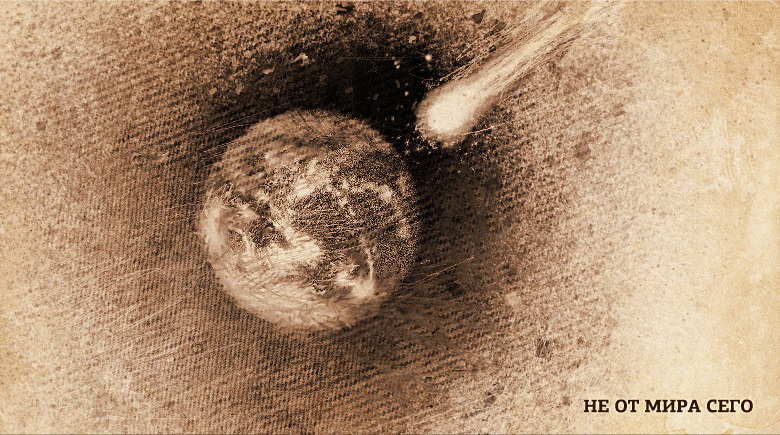


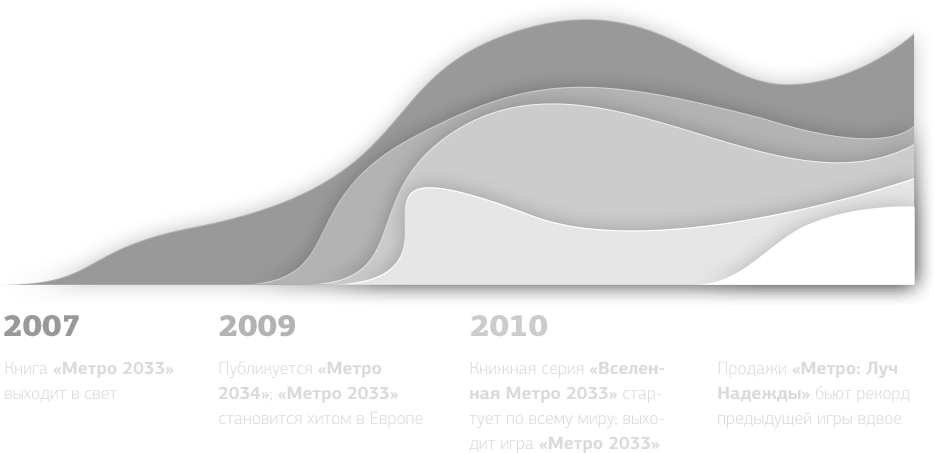
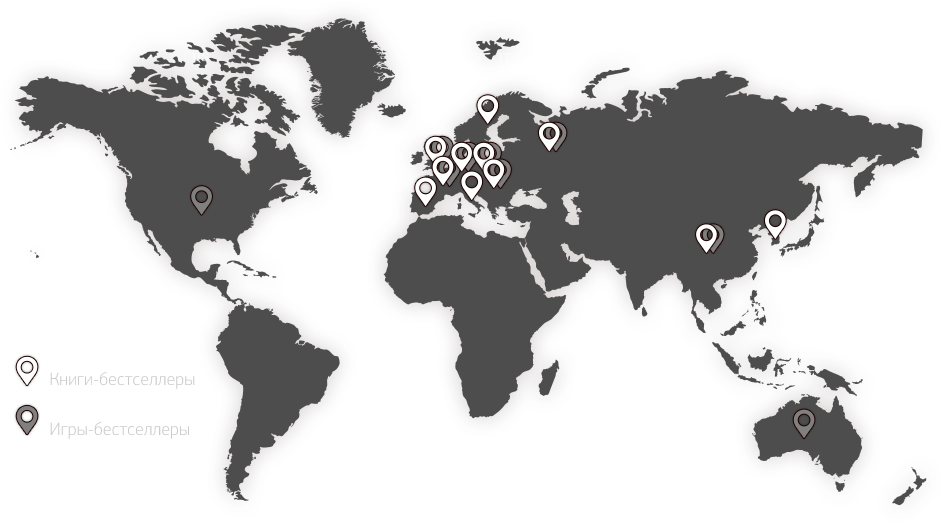
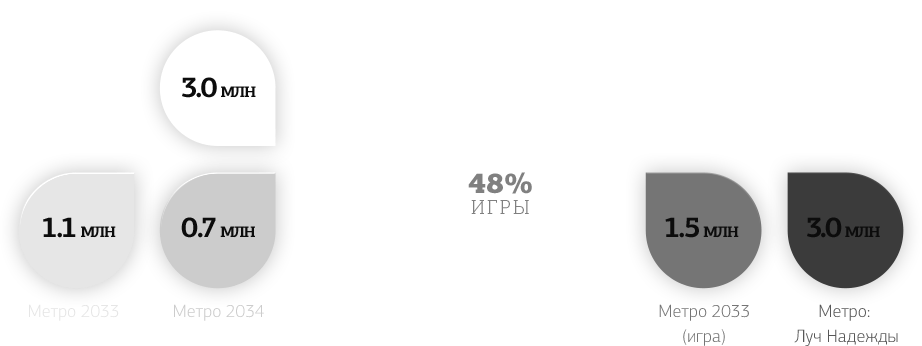


























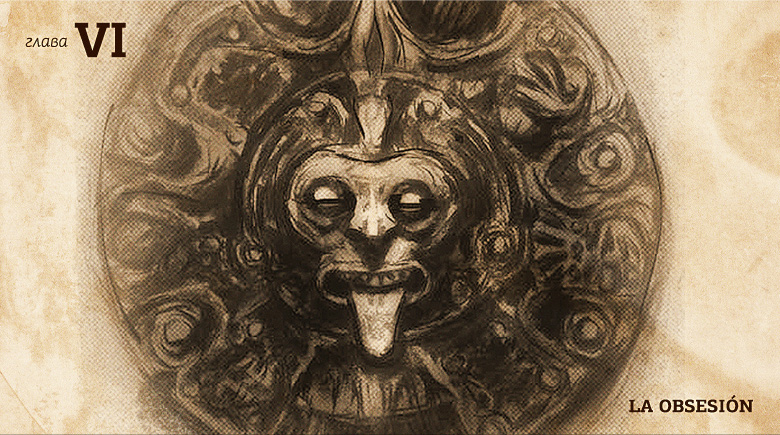




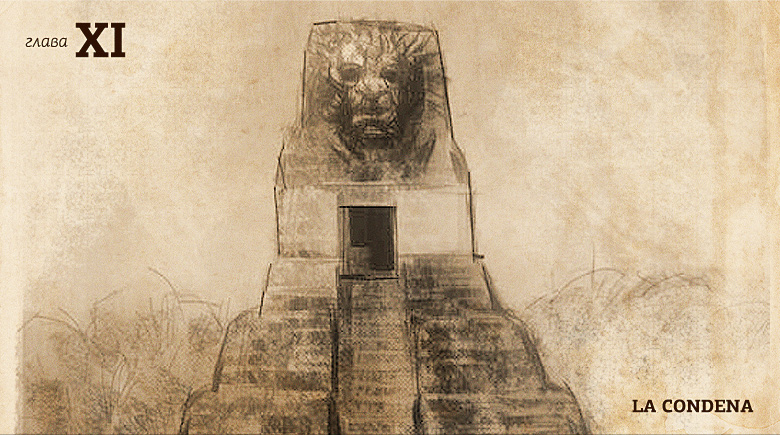

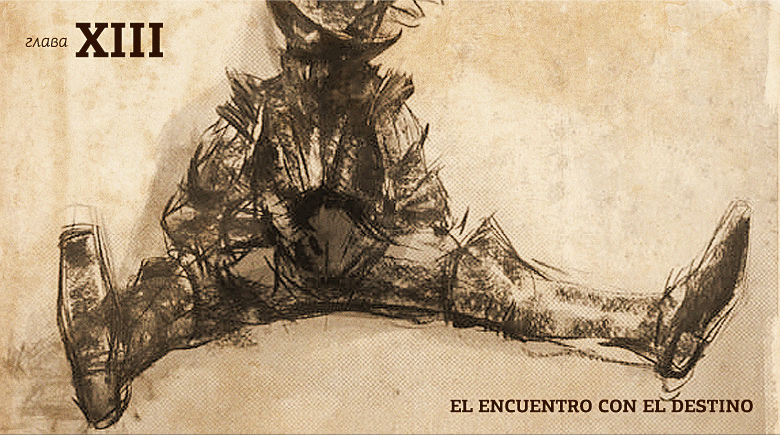

























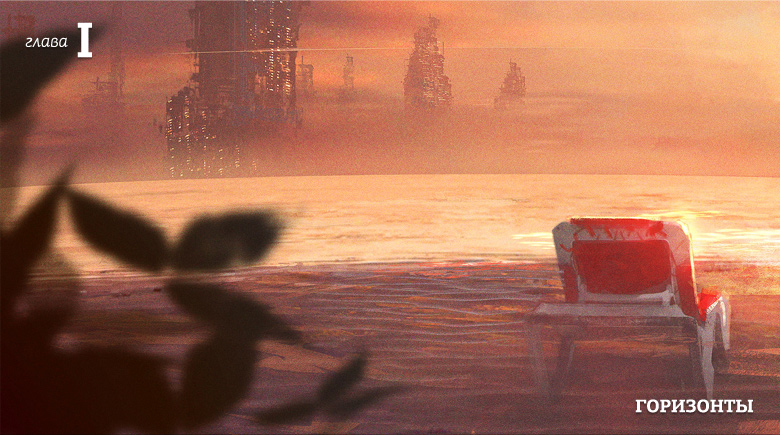
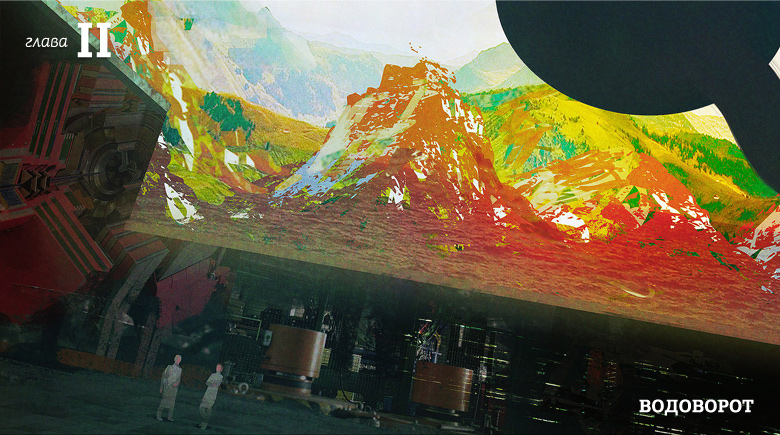









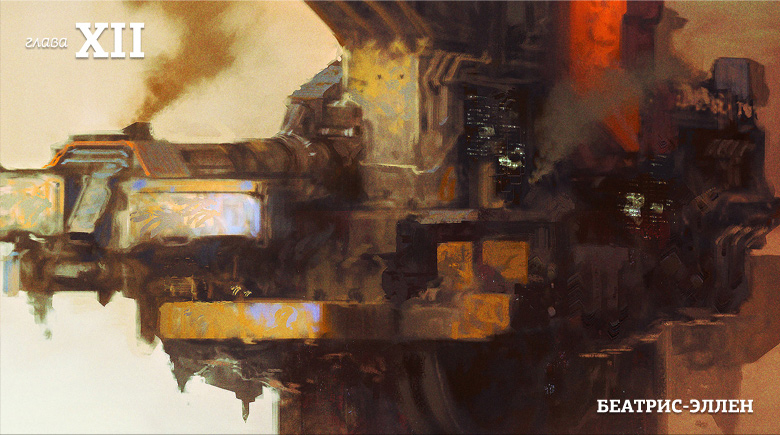





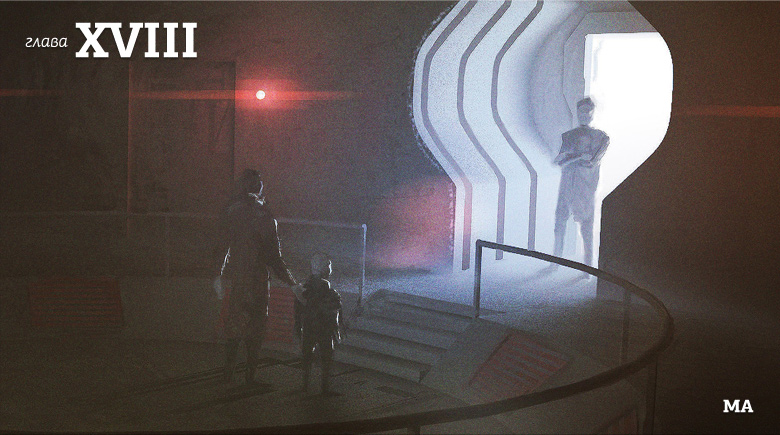


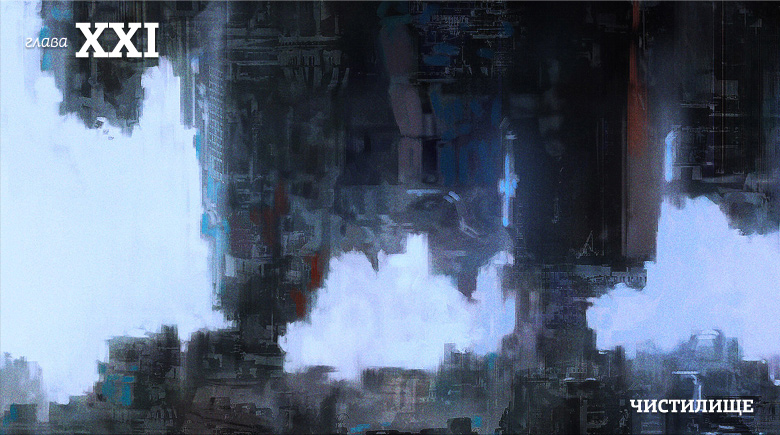









Ровно в тот же самый день, когда польские пограничники досматривали косметички у «Ночных волков», я и сам был в Польше: общался с местными читателями по поводу недавно вышедшей там моей книги.